Рене Жирар знаменит преимущественно благодаря своему главному детищу — теории миметического желания, из которой ему удалось вывести несколько далеко идущих следствий для разных областей человеческой жизни. Применив эту теорию к межличностным отношениям, он объявил то, что знает любой рекламщик: наши желания возникают не сами по себе, а всегда как имитация модели, которая, однако, автоматически превращается в соперника, когда речь идёт об объекте, которым не могут обладать все желающие одновременно. Распространяясь по обществу как инфекционная болезнь, желание заражает всех вокруг и порождает настоящую эпидемию всеобщего насилия, среди которой изначальный объект желания скоро забывается. Имитация желания превращается в имитацию антагонизма, когда коллективное насилие начинает сосредотачиваться на произвольно выбранной жертве — козле отпущения, чьё убийство делает его одновременно виновником и спасителем от возникшего кризиса. Звучит знакомо, правда? По мнению Жирара, механизм козла отпущения ответственен за возникновение всех архаических религий — а также культуры, общества и политических институтов. В своём эссе «Чума в литературе и мифах» Жирар исследует взаимосвязь эпидемий и общественного кризиса — и да, миметическое желание, насилие и козёл отпущения тоже здесь присутствуют.
Чума встречается в литературе повсеместно: в эпосе (поэмы Гомера), в трагедии («Царь Эдип»), в истории (труды Фукидида) и в философской поэзии (Лукреций). Чума служит фоном для рассказов в «Декамероне» Боккаччо; есть басни о чуме, например, «Больные чумою животные» Лафонтена; есть также романы, например, «Обручённые» Мандзони и «Чума» Камю. Эта тема старше, чем сама литература, поскольку она фигурирует в мифах и ритуалах по всему миру.
Предмет представляется слишком обширным для поверхностного обзора. Без сомнения, перечисление описаний чумы в литературе и мифах не представляло бы особого интереса: существует странное однообразие в различных вариациях чумы не только в литературных и мифологических описаниях, но также в научных и ненаучных, прошлых и настоящих. Различия между бесстрастным, почти статистическим отчётом Дефо в «Дневнике чумного года» и близким к истерии свидетельством Антонена Арто в «Театре и чуме» при ближайшем рассмотрении оказываются незначительными. Было бы преувеличением сказать, что все описания чумы похожи друг на друга, однако сходства вполне могут быть более интригующими, чем различия. Самое любопытное в этих сходствах — они содержат в себе само понятие сходства. Чума неизменно представляется как неразличение, уничтожение особенностей.
Этому уничтожению часто предшествует инверсия.
Чума превращает честного человека в вора, праведника в распутника, проститутку в святую.
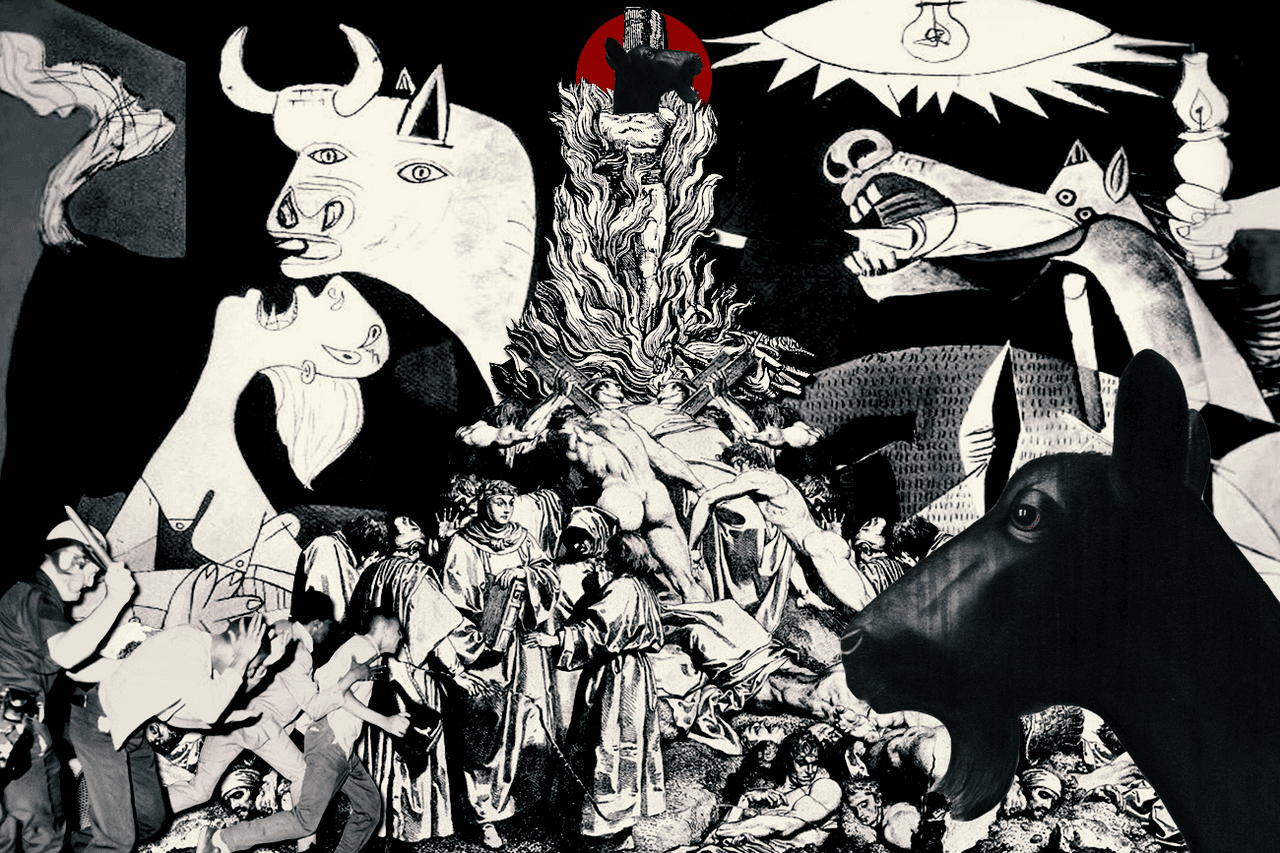
Друзья убивают друг друга, а враги обнимаются. Богачи становятся нищими из-за банкротства своего дела. Богатство сваливается на головы бедняков, которые в считаные дни наследуют состояния многочисленных дальних родственников. Общественные иерархии сначала подрываются, а потом уничтожаются. Политическая и религиозная власть рушится. Чума отменяет все накопленные знания и все рациональные категории. Традиционно считалось, что чума поражала молодых и сильных, а не старых и немощных; здоровых, а не хронически больных. Данное мнение, вероятно, возникло из-за того, что смерть молодых и здоровых — более необычное и шокирующее зрелище, чем смерть старых и больных. Тем не менее необходимо отметить, что современный научный взгляд соответствует вечному духу чумы даже лучше, чем традиционный. Отличительная черта чумы в том, что она уничтожает все формы различий. Чума преодолевает любые препятствия, пренебрегает любыми границами. В итоге вся жизнь превращается в смерть, высшую форму неразличения. Большинство письменных свидетельств единогласно подчёркивают это устранение различий. Среди них и пляска смерти, вдохновением для которой, естественно, послужила чума.
Вера в то, что эпидемия чумы может повлечь за собой общественный коллапс, вовсе не иррациональна; более того, она основана на непосредственных наблюдениях.
В начале нового времени, когда эпидемии чумы ещё не исчезли, а научный дух уже пробудился, можно найти тексты, которые проводят отчётливое различие между чумой как медицинской проблемой и её общественными последствиями, — и тем не менее продолжают усматривать сходство. Французский хирург Амбруаз Паре, к примеру, пишет:
«Со вспышкой чумы даже представители высшей власти обращаются в бегство, так что осуществление правосудия становится невозможным и никто не может отстоять свои права. Тогда устанавливается всеобщий хаос и анархия, а это наибольшее зло, которое может постичь республику; ведь это момент, когда распутники приносят в город другую, худшую чуму».
Такая последовательность событий совершенно естественна; ничуть не менее, однако, чем противоположная. Общественные беспорядки могут создать условия, благоприятные для вспышки чумы. Историки до сих пор спорят, была ли Чёрная Смерть XIV века причиной или следствием общественных беспорядков.
Существует взаимозависимость между чумой и общественными беспорядками, но её недостаточно, чтобы объяснить их повсеместное смешение, встречающееся не только в мифах, но и во множестве литературных источников от древних времён до современности. Чума греческих мифов не только убивает людей, но и провоцирует полную остановку всех культурных и естественных процессов; она вызывает бесплодие женщин и скота, уничтожает урожай. Во многих частях мира слова, которые мы переводим как «чума», являются общими названиями для разнообразных бедствий, постигающих сообщество и угрожающих самому существованию общественной жизни. Исходя из различных признаков, можно сделать вывод, что межличностные конфликты часто играют в них ключевую роль.
В процитированном выше отрывке Паре различает то, что ум примитивного человека объединяет — медицинский и общественный элементы мифологической чумы. Общественные составляющие описываются как «ещё одна, худшая чума».
Анархия — это чума; в некоторым смысле даже в большей степени, чем сама болезнь.
Былое единство нарушено, однако оно сохраняется в стилистическом приёме — использовании одного и того же слова для обозначения двух отдельных и в то же время удивительно неразделимых явлений. Медицинская чума становится метафорой общественной чумы; она принадлежит тому, что мы зовём литературой.
Судя по роли, которую чума играет в западной литературе вплоть до сегодняшнего дня, данная метафора наделена невероятной живучестью — и это в мире, где чума и эпидемии в целом почти полностью исчезли. Такая жизнеспособность была бы непостижимой, если бы общественная «чума» не оставалась с нами постоянно, как страх или как реальность. Однако, кажется, этого факта недостаточно, чтобы объяснить подлинное значение, которое она представляет для множества писателей. И действительно, анализ наиболее значимых текстов демонстрирует очевидные аналогии между чумой (или скорее всеми крупными эпидемиями) и связанными с ними общественными явлениями, реальными или воображаемыми.
Один такой текст содержится в «Преступлении и наказании» Достоевского. В конце романа Раскольников видит сон, предшествующий его нравственному выздоровлению. Ему снится, что весь мир страдает от болезни, оказывающей пагубное воздействие на отношения между людьми. Не упоминаются никакие сугубо медицинские симптомы. Портятся лишь взаимоотношения между людьми, и постепенно всё общество рушится.
«Ему грезилось в болезни, будто весь мир осуждён в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. … Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одарённые умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали заражённые. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нём в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовёт, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремёсла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше».
Язва — очевидная метафора некоего взаимного насилия, которое в буквальном смысле распространяется как чума.
Уместность метафоры кроется, разумеется, в этом заразном свойстве. Заразность подразумевает наличие чего-то губительного, не теряющего своей силы при передаче от человека к человеку. Таковы, естественно, бактерии в эпидемии; но таково и насилие, когда оно является результатом подражания — когда негативный пример делает привычные ограничения неэффективными или когда попытки подавить насилие при помощи насилия не приводят ни к чему, кроме увеличения его количества. Контрнасилие оказывается неотличимым от насилия. В случае массового заражения жертвы оказываются бессильны — не обязательно потому, что они остаются пассивными, но потому что всё, что они делают, оказывается неэффективным или усугубляет ситуацию.
Чтобы понять сон Раскольникова, мы должны читать его в контексте всего творчества Достоевского, той разрушительной смеси высокомерия и униженности, свойственной Раскольникову и другим героям Достоевского. Поражёнными болезнью, кажется, владеет то же желание, что и Раскольниковым, каждый становится жертвой той же мании величия и видит себя единственным сверхчеловеком: «...всякий думал, что в нём в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других».
Это желание содержит в себе противоречие; оно претендует на полную автономию и почти божественную самодостаточность, но в то же время имеет подражательную природу. Божественность, которой стремится достичь это желание, рано или поздно неизбежно оказывается божественностью кого-то другого — эксклюзивной привилегией модели, которой герой должен подражать не только в своём поведении, но также и в своих желаниях. Раскольников боготворит Наполеона. Одержимые подражают Ставрогину. Дух поклонения должен сочетаться с духом ненависти. Чтобы понять эту амбивалентность, нет необходимости обращаться к Фрейду. Здесь нет никакой тайны. Подражать желаниям кого-то другого означает превращать этого другого одновременно в соперника и образец для подражания. Направленность двух или более желаний на один и тот же объект неизбежно ведёт к конфликту.
Миметическая природа желания объясняет множество противоречий у героев Достоевского; один этот принцип способен сделать их личности действительно понятными. Подражательное желание неизбежно создаёт себе живые препятствия как убедительные доказательства того, что образец для подражания выбран правильно. Миметическое желание не может поддерживать свои иллюзии, не влюбляясь в собственные губительные последствия и не фокусируясь всё больше и больше на насилии своих соперников. Миметическая привлекательность насилия — важная тема в творчестве Достоевского. Так насилие становится взаимным. Во сне о язве, слова «друг друга» встречаются неоднократно. Романы Достоевского описывают миметический крах человеческих отношений, распространяющийся всё дальше и дальше. Сон о язве — это не что иное как квинтэссенция кризиса у Достоевского; и он распространяет этот кризис на весь мир в истинно апокалиптической манере.
От Достоевского я хотел бы перейти к Шекспиру, который кажется очень далёким, но в действительности очень близок в контексте рассматриваемого вопроса. Я хочу сравнить сон о язве из «Преступления и наказания» с определённым отрывком из Шекспира, а именно знаменитой речью Улисса из «Троила и Крессиды» — текстом, который основывается, по моему мнению, на той же идее культурного кризиса, что и сон о язве у Достоевского.
Прежде всего необходимо отметить, что всё действие пьесы «Троил и Крессида» вращается вокруг идеи миметического желания, аналогичной той, которую мы только что обнаружили у Достоевского. Тема пьесы — разложение греческой армии, стоящей под стенами Трои. Разлад начинается сверху. Ахилл подражает Агамемнону, и в том смысле, что он серьёзно претендует на его место (он хочет стать верховным правителем греков), и в том, что он язвительно высмеивает и пародирует своего командира. Миметическое соперничество распространяется по рангам и приводит к полному хаосу:
Постепенно, шаг за шагом,
Примеру высших следуют другие,
Горячка зависти обуревает
Всех, сверху донизу; нас обескровил
Соперничества яростный недуг.
Эти строки напоминают сон Раскольникова: «Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга».
Оба героя находятся во власти миметического желания. Не только политический и военный, но и эротический аспект пьесы — это вопрос мирских желаний, сопернических и подражательных по своей природе. Следовало бы назвать Крессиду «ненастоящей», если бы не было подозрения, что идеал автономного желания, по которому её надлежит судить — сам по себе плод неистового подражания. Любовники постоянно открыты губительному внушению ложных образцов для подражания или ещё худшим советам от Пандара. В действительности они — антигерои, постоянно вовлечённые в игру обманчивости и тщеславия, которая так же относится к настоящей страсти, как поведение армии к подлинной военной доблести.
Никакой индивидуальный или психологический подход не может адекватно передать масштаб явления. Вот почему кульминация пьесы — это речь, в которой Улисс описывает кризис настолько острый и всеохватывающий, что он выходит за пределы даже самых радикальных представлений об общественном кризисе. Центральное понятие, порядок (gradus), происходит от латинского слова, означающего «шаг»: отмеренное расстояние, необходимое различие, благодаря которому два культурных объекта, человека или института могут иметь собственное бытие.
О, стоит лишь нарушить сей порядок,
Основу и опору бытия —
Смятение, как страшная болезнь,
Охватит всё, и всё пойдет вразброд,
Утратив смысл и меру. Как могли бы,
Закон соподчиненья презирая,
Существовать науки и ремёсла,
И мирная торговля дальних стран,
И честный труд, и право первородства,
И скипетры, и лавры, и короны.
Забыв почтенье, мы ослабим струны —
И сразу дисгармония возникнет.
Давно бы тяжко дышащие волны
Пожрали сушу, если б только сила
Давала право власти; грубый сын
Отца убил бы, не стыдясь нимало;
Понятия вины и правоты —
Извечная забота правосудья —
Исчезли бы и потеряли имя.
Образ ослабленной струны демонстрирует, что культурный порядок следует понимать как мелодию — не как простую совокупность разнородных объектов, а как структуру, систему различий, управляемую единым различающим принципом.
Если у миметического желания есть объект, то это сам порядок; порядок уязвим к преступным посягательствам изнутри структуры. Это не означает, что порядок — некий объект, который можно присвоить. Совсем наоборот. Если порядок исчезает или оказывается скрытым, становясь объектом соперничества, то это только потому, что он не означает ничего иного, кроме отсутствия подобного соперничества в функционирующем культурном порядке.
Кризис, таким образом, — это период наиболее неистовых желаний, которые становятся всё более и более губительными.
Поскольку эти желания множатся миметическим путём, взаимное насилие усугубляется, а различия устраняются; «порядки», ведущие к объекту, и сам объект исчезают. Следовательно, именно желание «ведёт назад и ослабляет».
Как и в тексте Достоевского, все общие цели исчезают, а полезная деятельность прекращается. Желание каждого отдельного человека выделиться мгновенно провоцирует подражание, множит бессмысленное соперничество и создаёт условия, которые препятствуют функционированию общества из-за возрастающего однообразия. Весь процесс — это неразличение, выдающее себя за крайнюю форму различения — ложный «индивидуализм». В конце концов даже самые фундаментальные различия оказываются невозможными. Шекспир пишет, что «понятия вины и правоты … потеряли имя» — фраза, которая резонирует с Достоевским: «Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать».
В обоих текстах, хоть и более явно у Шекспира, доминирующая идея в том, что обыкновенная человеческая деятельность, какими бы взаимными ни были её результаты, может осуществляться только на основе невзаимности. Конструктивные отношения любого рода дифференцированы. Улисс несомненно обнаруживает предубеждение в пользу иерархии и авторитарности. Но не стоит поспешно заключать, что это умаляет значимость его речи. Сами понятия, которыми он оперирует — например, понятие культурного порядка как дифференцированной системы, подверженной краху — подразумевают произвольность культурных различий.
Когда исчезают различия, отношения становятся всё более жестокими и бесплодными по мере того, как становятся более симметричными. Кризис порождает отношения двойников. Мы бы неправильно поняли это отношение, если бы интерпретировали его как coincidentia oppositorum, в традиции философского идеализма или как не более чем галлюцинацию, в духе психологического «нарциссизма».
У Шекспира, как и ранее у драматургов античности, отношения двойников вполне реальные и конкретные; это фундаментальные отношения трагических и комических антагонистов. Они имеют место между четырьмя двойниками в «Комедии ошибок», где они почти идентичны отношениям в «Троиле и Крессиде» и прочих пьесах Шекспира. Тот факт, что двойники постоянно сталкиваются друг с другом, отчаянно пытаясь расстаться, можно рассматривать либо в трагическом, либо в комическом свете. Это в равной степени применимо как к Достоевскому, так и к Шекспиру. Отношения конфликтной симметрии и взаимного восхищения, описанные в романах, по сути идентичны изображённым в раннем рассказе под названием «Двойник».
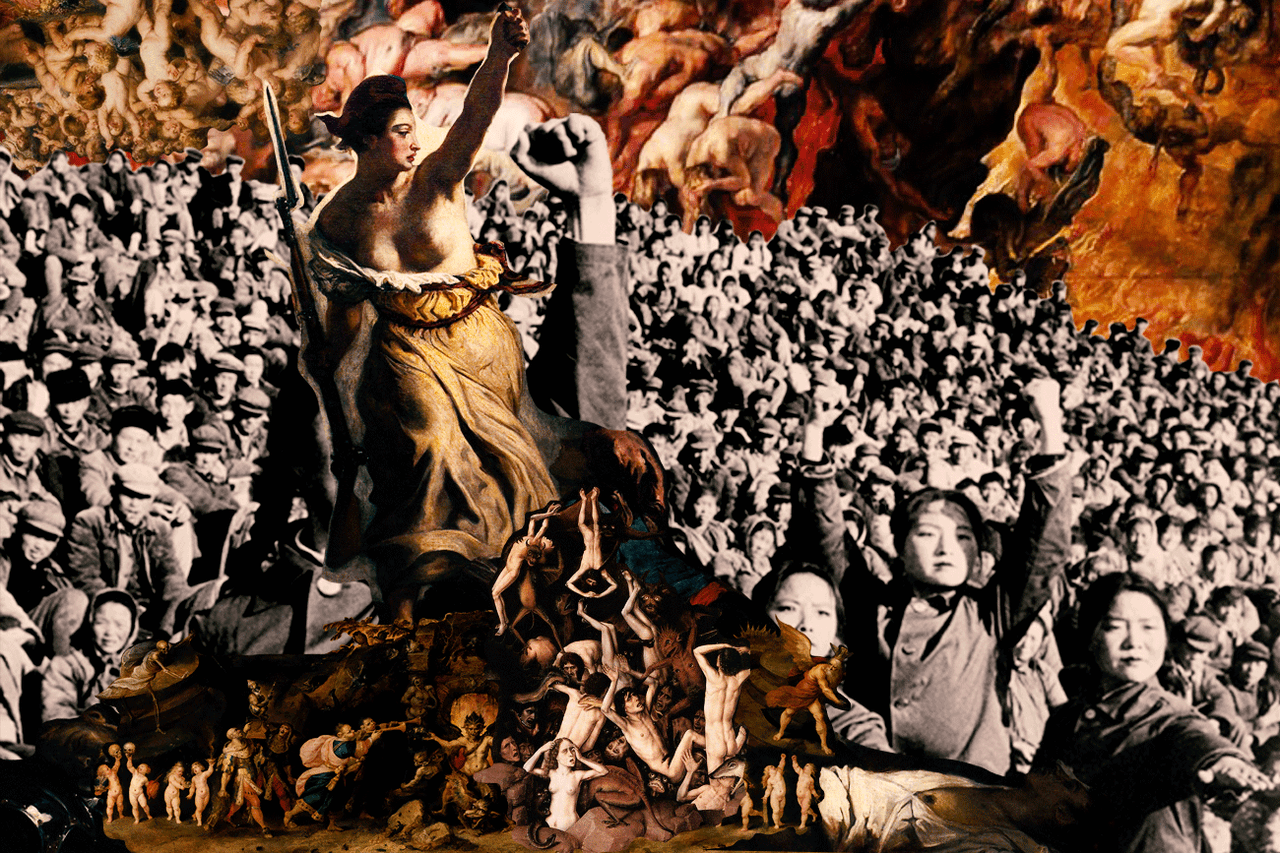
Итак, речь Улисса имеет очевидные параллели со сном Раскольникова о язве. В обоих текстах авторы находят способ концептуализировать один и тот же тип взаимоотношений, который в их остальных произведениях выражен в форме драмы и романа, соответственно. Сходство этих двух авторов особенно поразительно в свете их очевидных различий в языке, эпохе, стиле, жанре и так далее. Для полноты параллели у Шекспира также должна быть метафора чумы; и, как ни удивительно, она у него есть. Её можно найти в приведённом выше отрывке. Даже несмотря на то, что она не играет настолько же важную роль, как во сне Раскольникова, всё же метафора наличествует, фигурируя среди различных природных катаклизмов, сопровождающих кризис:
Как вздыбятся моря и содрогнутся
Материки! И вихри друг на друга
Набросятся, круша и ужасая,
Ломая и раскидывая злобно
Всё то, что безмятежно процветало
В разумном единенье естества.
Отныне мы имеем дело не с темой чумы самой по себе, но с тематическим блоком, который, помимо темы эпидемии, включает также устранение различий и миметических двойников. Все эти элементы присутствуют как у Шекспира, так и у Достоевского. Далее я приведу больше примеров, которые продемонстрируют, что данный тематический блок почти неизбежно формируется вокруг темы чумы, какими бы несхожими ни казались тексты на первый взгляд.
Прежде, однако, я должен завершить тематический блок. Ещё один элемент, который до сих пор не был упомянут, но, возможно, наиболее важный из всех — это элемент жертвоприношения. Он заключается в том, что смерть и страдания, вызванные чумой, не напрасны — они необходимы, чтобы очистить и восстановить общество. Вот, например, как заканчивается сон Раскольникова:
«Спастись во всём мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».
Нечто похожее есть и в «Театре и чуме» Арто:
«Театр как чума — это кризис, который может разрешиться либо смертью, либо исцелением. Чума — это высшая болезнь, ведь она представляет собой тотальный кризис, после которого не остаётся ничего, кроме смерти или радикального очищения».
В ритуалах по всему миру смерть сама по себе служит очищающей силой — смерть всех заражённых чумой или лишь немногих, а иногда единственной избранной жертвы, которая принимает на себя чуму во всей её полноте и чья смерть или изгнание излечивает общество. Жертвоприношения и ритуалы козла отпущения предписываются, когда общество поражено «чумой» или любым другим бедствием. Данный тематический блок даже более распространён в мифах и ритуалах, чем в литературе. В «Исходе», например, мы находим «десять казней египетских» вместе с эпизодом, где Моисея поражает проказой, а затем исцеляет сам Яхве. «Десять казней египетских» — это усугубление разложения общества, которое также проявляется в форме разрушительного соперничества между Моисеем и египетскими жрецами. В конце мы встречаем тему жертвоприношения в форме смерти первенцев и установления ритуала пасхи.
Элемент жертвоприношения иногда невидим, а иногда служит скорее атмосферой, которая окружает каждую тему, но не проявляется отчётливо; его статус необходимо установить. Анализ мифологических элементов, присутствующих в трагедии Софокла «Царь Эдип», может помочь пролить свет на данный вопрос.
В начальных сценах трагедии город Фивы поражён эпидемией чумы; разрешение кризиса становится испытанием силы и авторитета для главных героев — Эдипа, Креона и Тиресия. Каждый из этих претендентов на роль исцелителя пытается переложить вину на других, и они все превращаются в двойников друг друга. Трагический конфликт и чума пребывают в таких же метафорических отношениях, как и у Достоевского и Шекспира с той лишь разницей, что здесь метафорический характер менее очевиден.
В свете нашего анализа трагический конфликт в «Царе Эдипе» сводится ни к чему иному, как к поиску козла отпущения, спровоцированному оракулом, который говорит: «Среди вас есть убийца; избавьтесь от него, и вы избавитесь от чумы».
Как может один-единственный человек, пусть даже и злостный преступник, быть ответственным за общественный катаклизм, подразумеваемый под «чумой»?
Тем не менее, в мифе действенность такого странного лекарства не только не ставится под сомнение, но и подтверждается. Следовательно, мы должны допустить, что обнаружение «виновника» исцеляет чуму. Всеобщая охота на ведьм доводит кризис до критической точки; после этого фокусирование вины на Эдипе и его изгнание служат подлинным разрешением. Весь процесс напоминает «катарсическое» очищение.
Возникает удивительная возможность. Несмотря на то, что приведённые причины скорее мифические, реальность исцеления может оказаться фактом. За мифом может скрываться подлинный кризис, завершающийся с изгнанием или смертью жертвы. В таком случае оракул отчасти прав. Правда не в том, что действительно существует «виновник», единолично ответственный за чуму. Такой человек, разумеется, не может существовать. Оракул в действительности говорит про «подходящую» жертву, в том смысле, что против этой жертвы все могут объединиться. Эдип вполне может быть подходящим козлом отпущения, ведь обвинения против него действительно восстанавливают целостность сообщества. Такое восстановление равноценно «исцелению», если чума — это такой же кризис миметического насилия, как и у Шекспира и Достоевского (а Софокл, судя по всему, подразумевает именно это). Сосредоточение восхищения и ненависти на одной жертве не оставляет ничего для других двойников, и тем самым приводит к их примирению.
Как может быть достигнуто необходимое единообразие, если никто из потенциальных жертв не может быть более или менее виновным, чем остальные? Как может мифологическая «вина» быть окончательно сосредоточена на более-менее произвольной жертве? Миметические двойники одинаковы, между ними нет никаких различий. Это означает, что в любой момент даже самое незначительное событие может спровоцировать миметический перенос на любого из двойников. Положительный результат от такого переноса в конце кризиса неизбежно трактуется как подтверждение слов «оракула», неопровержимое доказательство того, что «настоящий виновник» был найден. Надёжная причинно-следственная связь выглядит установленной.
Описанный процесс подразумевает, что произвольная жертва должна восприниматься как «настоящий виновник», неизвестный ранее, но теперь вычисленный и наказанный.
Другими словами, эта произвольная жертва никогда не воспринимается как произвольная; «исцеления» бы не происходило, если бы его исцеляющиеся осознавали произвольность выбора жертвы.
Я только что сказал, что вся ответственность за кризис коллективно переносится на козла отпущения. Этот перенос, естественно, не показывается как таковой. Вместо правды мы получаем «преступления» Эдипа, «отцеубийство» и «инцест», которые предположительно «отравляют» весь город. Эти два преступления со всей очевидностью олицетворяют упразднение даже самых основополагающих культурных различий — различий между отцом, матерью и ребёнком. Отцеубийство и инцест представляют собой квинтэссенцию кризиса, его логическую кристаллизацию в контексте поиска козла отпущения, то есть попытки возложить ответственность за этот кризис на одного-единственного человека. Даже сегодня эти и подобные им обвинения выходят на передний план, когда готовится погром или когда неистовствует толпа линчевателей.
Темы отцеубийства, инцеста, а также детоубийства неизменно возникают, когда сплоченность оказывается под угрозой, когда общество подвергается опасности распада.
Природы преступлений, приписываемых Эдипу, должно быть достаточно, чтобы вызвать подозрение, что мы имеем дело с каким-то подобием линчевания. К сожалению, исследователи продолжают искать исторически задокументированную связь между мифом об Эдипе и неким конкретным ритуалом козла отпущения. Безрезультатно. Вопрос восхождения мифа к ритуалу или ритуала к мифу — это замкнутый круг, который можно разорвать, задав более важный вопрос о вероятном возникновении обоих из спонтанного линчевания, которое неизбежно остаётся невидимым из-за его эффективности.
Если коллективный перенос действительно эффективен, жертва никогда не будет выглядеть как очевидный козёл отпущения. Она будет выглядеть как настоящий преступник, как единственный виновный в сообществе, теперь свободном от насилия. Эдип — козёл отпущения в полном смысле слова, потому что он никогда не определяется как таковой. В воспоминании о кризисе, которое не позволяет провести различие между двойниками, темы мифа искажены. Изначальные элементы по-прежнему присутствуют, но видоизменены таким образом, чтобы скрыть взаимность кризиса и сфокусировать всё насилие на несчастном козле отпущения, делая всех остальных пассивными жертвами смутного и неопределённого бедствия под названием «чума». Линчевание, рассматриваемое с точки зрения линчевателей, никогда не будет явным. Для того чтобы установить истину, мы должны совершить акт радикальной критики, которая бы рассматривала мифологические темы как систематическое искажение прошедшего кризиса.
Спонтанный поиск козла отпущения тогда оказывается системообразующим для мифа, настоящим raison d'être его тем, в особенности чумы, которая должна рассматриваться, я считаю, как маска для кризиса, ведущего к поиску козла отпущения, не только в мифе об Эдипе, но и во многих других по всему миру.
Мне могут возразить, что Эдип — одновременно религиозный герой и злодей. Это так, но это совершенно не отрицает вышесказанного. Разница между процессом основания мифа и поиском козла отпущения в том, что первый предполагает полный цикл от всеобщей ненависти до всеобщего почитания. Если сосредоточение на одной жертве действительно имеет эффект исцеления, то вина жертвы подтверждается, но её роль как спасителя не становится менее очевидной. Вот почему Эдип, а также стоящий за ним бог Аполлон, оказываются одновременно виновниками чумы и исцелителями. Это верно применительно ко всем примитивным богам и прочим священным фигурам, ассоциируемым с мифологической «чумой». Они одновременно ненавистные божества, насылающие чуму, и благодетели, приносящие избавление. Этот дуализм присутствует во всех примитивных формах «сакрального».
Я уже высказывал предположение, что данная гипотеза также относится к ритуалу, и что жертвоприношение, обычно интерпретируемое как воспроизведение убийства божества, считается определяющим событием в основании культуры. На подготовительном этапе жертвоприношения симметрично расположенные оппоненты исполняют воинственные танцы или изображают битвы. Семейные и общественные иерархии нарушаются или переворачиваются. Эти и многие другие черты можно интерпретировать как некий «кризис порядка», обыкновенно завершающийся коллективным переносом на одну жертву. Можно предположить, что ритуал стремится воссоздать этот процесс, чтобы добиться объединяющего эффекта, упомянутого ранее. Есть веские причины считать, что цель, как правило, достигается. Однако будучи по-прежнему неспособны осознать угрозу, которую несёт внутреннее насилие для примитивного общества, мы не можем распознать в ритуале достаточно эффективную защиту против этой угрозы.
Если предшествующие замечания не безосновательны, то взаимосвязь между чумой и ритуалом жертвоприношения, сначала в примитивных религиях, а затем и в литературе, становится понятной.
Примитивные общества постоянно прибегают к ритуалу для защиты от всего, что они называют чумой.
Это может включать разнообразные угрозы от кризиса миметического насилия и менее острых форм внутреннего напряжения до исключительно внешних угроз, не имеющих никакого отношения к взаимному насилию, в том числе настоящие эпидемии и даже чуму.
Ритуал стремится воспроизвести процесс, который доказал свою эффективность против одного типа «чумы», самого ужасного — эпидемии взаимного насилия. Я считаю, что выбор козла отпущения через религиозные мифы и особенно мифы о чуме играет важную роль минимизирования опасности, которую его собственный потенциал к внутреннему насилию представляет для примитивного сообщества. Это минимизирование в свою очередь должно рассматриваться как неотъемлемая часть защиты, которую миф и ритуал обеспечивают от этого насилия.
Читая некоторые строки из Софокла и Еврипида, трудно поверить, что эти писатели не обладали интуитивным пониманием коллективных механизмов, стоящих за мифами, которые они использовали. Эти механизмы засвидетельствованы исторически. В Средние Века, например, общественные катаклизмы, особенно эпидемии чумы, обычно провоцировали преследования евреев. Даже несмотря на то, что эти механизмы стали менее продуктивными в отношении мифологического наследия, они всё же далеки от исчезновения.
Теперь мы в состоянии понять, почему мифологическая чума никогда не существует одна. Она — часть тематического блока, который также включает миметических двойников и тему жертвоприношения, способную принимать форму поиска козла отпущения. Ранее я сказал, что чума как литературная тема по-прежнему жива сегодня в мире, где угроза бактериальных эпидемий становится всё менее реальной. Этот факт кажется неудивительным сейчас, когда мы понимаем, что собственно медицинские аспекты чумы никогда и не были существенными; они всегда играли второстепенную роль, служа маскировкой для более страшной угрозы, которую никакой науке ещё не удалось победить.
Я приведу три разных примера того, что прямое литературное влияние не может объяснить наличие взаимосвязи. Первый пример — уже упомянутый ранее «Театр и чума» Арто. Большая часть этого текста посвящена описанию медицинских и социальных последствий не конкретной эпидемии, но чумы в общем. В длинном псевдоклиническом исследовании Арто отвергает все научные причины передачи болезни; он интерпретирует происходящий физиологический процесс как либо разжижение тела, либо, наоборот, усыхание и превращение в порошок. Эта утрата органических различий мифична с точки зрения медицины, но эффективна с точки зрения эстетики, поскольку она изображает патологические синонимы по образцу культурного разложения. Само апокалиптическое видение подобно сну о язве у Достоевского, только на этот раз, в согласии с разрушительным духом современного искусства, оно становится поводом к торжеству.
На первый взгляд кажется, что несмотря на свою интенсивность, процесс утраты различий здесь не приводит к возникновению двойников. Тем не менее, двойники присутствуют — не настолько явно, как у Достоевского и Шекспира, но всё же, особенно в тех фрагментах, которые указывают на чисто духовное заражение, аналогичное миметическому высокомерию первых двух примеров.
«Другие жертвы, без бубонов, галлюцинаций, болей или сыпи, высокомерно рассматривают себя в зеркало и считают себя полностью здоровыми, а затем падают замертво, обхватив свои бритые головы руками, полные презрения к остальным жертвам».
Высокомерное рассматривание себя — это гордыня, претендующая на господство даже посреди чумы, и мгновенно сводимая на нет неожиданным началом болезни. На первый взгляд не тронутая болезнью жертва умирает, «полная презрения к остальным жертвам». Неутолимое желание выделиться превращает, казалось бы, здорового человека в двойника всех остальных жертв, его партнёров по насилию и смерти. Зеркало — это постоянный атрибут двойников.
Тема жертвоприношения здесь также присутствует: во-первых, в обновлении, которое чума и её современный аналог, театр, должны принести в испорченный мир, но также в более тонких аспектах, которые, по крайней мере в одном случае, могут быть ограничены одним-единственным словом. В одном месте автор изображает вскрытие, производимое на одной из жертв — и не каким-нибудь ножом, а ножом, который без каких-либо видимых причин описывается как сделанный из обсидиана. В антропологической литературе встречаются упоминания о таких ножах, использовавшихся для разрезания человеческой плоти — это ацтекские ножи для жертвоприношений. Не будет преувеличением предположить, что нож из обсидиана и жертвы чумы были навеяны идеей человеческих жертвоприношений.
Второй пример — это творчество Ингмара Бергмана, в котором чума, устранение различий, миметические двойники и жертвенный козёл отпущения встречаются неоднократно. Фильм, который особенно стоит упомянуть в контексте двойников — это, конечно же, «Персона». В нём только два героя — медсестра и её пациентка, молчаливая актриса. Фильм полностью посвящён их миметическим отношениям, которые являют собой такое же радикальное устранение различий, какое мы видели ранее.
В другом фильме, «Стыд», взаимосвязь миметических двойников и эпидемии проявляется очень явно. Идёт бессмысленная гражданская война между двумя совершенно неразличимыми группами. Эта абсурдная борьба соперников-двойников постепенно распространяется, заражая всех. Здесь, как во многих современных произведениях, древняя мифологическая чума сливается с такими угрозами, как радиоактивные осадки и промышленное загрязнение, которые работают точно так же, как чума, и представляют собой тревожно актуальные метафоры личных и общественных отношений в состоянии крайнего упадка.
Можно также выделить «Седьмую печать» как фильм, в котором взаимодействие всех элементов тематического блока показано особенно зрелищно. В фильме присутствуют миметические двойники, один из которых — смерть, а также там есть настоящая средневековая чума с шествием флагеллантов. Среди всего этого появляется намёк на линчевание, коллективный перенос на совершенно произвольного, но в то же время довольно значимого козла отпущения, актёра-мима, олицетворение мимесиса.
Третий пример — одновременно литературный и кинематографический. Это знаменитый рассказ Томаса Манна «Смерть в Венеции», который был экранизирован Лукино Висконти. Знаменитый писатель в летах Ашенбах отправляется в Венецию на отдых. По прибытии он замечает другого пожилого господина, который отчаянно вьётся вокруг группы молодых людей. Его модная одежда и румяна на щеках превращают его лицо в чудовищную маску псевдомоложавости. Позже герой позволяет парикмахеру нарумянить ему лицо и покрасить волосы, что делает его точной копией, идеальным двойником гротескного персонажа, которого он встретил ранее. Тем временем в отеле и на пляже писатель подпадает под очарование польского юноши. Различия в возрасте, языке и культуре, равно как и гомосексуальный характер, делают это скрытое влечение больше чем простым нарушением норм; оно становится крушением всей жизни героя.
Ощущение разложения усиливается эпидемией холеры, слухи о которой ходят в городе. Тема жертвоприношения также появляется: сначала во сне героя о примитивной вакханалии, в процессе которой забивают животных, а затем в его внезапной смерти следующим утром, которая кажется воздаянием за его капитуляцию перед силами культурного упадка. Писатель становится олицетворением холеры. Он в буквальном смысле встаёт на сторону эпидемии, когда решает не сообщать польской семье о холере в Венеции, подвергая их тем самым опасности.
Он радуется холере, и холера умирает вместе с ним, ведь когда он умирает, все покидают Венецию и драма разрешается.
В этих трёх современных примерах присутствуют чума и все ассоциируемые с ней темы; весь блок на удивление целостен. Ему свойственна даже большая тематическая последовательность, чем у Софокла, Шекспира или Достоевского. У Томаса Манна и Арто чума — не настолько очевидная метафора, как в «Преступлении и наказании», «Троиле и Крессиде» и даже «Царе Эдипе». Эта неочевидность придаёт чуме огромную художественную силу. Двойники также появляются в ореоле романтической тайны, в противовес неприукрашенной простоте трагедии.
В современных примерах тематические элементы блока наложены друг на друга, как цвета на модернистской картине. Нужен Шекспир, чтобы понять, что эти темы на самом деле не равноценны, что это даже не темы и неправильно их так называть. Чума — это меньше, чем тема, структура или символ, поскольку она символизирует саму десимволизацию. Двойники, с другой стороны — это больше чем тема; они олицетворяют неосознанную взаимность насилия среди людей. Они необходимы для понимания жертвоприношения как ослабления, замены и метафоры этого насилия. Чем ближе писатель подходит к основам этого процесса, тем более очевидными становятся чума и другие метафоры. Жертвенные ценности распадаются, обнаруживая корни в объединяющем эффекте спонтанного козла отпущения. Если процесс поиска козла отпущения, описанный выше, служит разрешением кризиса и источником мифологического смысла, он также должен быть концом трагедии и восстановлением порядка. Шекспир не просто повторяет; он обнажает весь процесс.
В «Ромео и Джульетте», например, Шекспиру требуется лишь шесть строк, чтобы раскрыть всю суть метафорических и действительных взаимоотношений. Знаменитый крик умирающего Меркуцио «Чума на оба ваши дома!» — это не просто наивное проклятие. Оно уже осуществлено в бесконечной разрушительной вражде этих двух домов, Монтекки и Капулетти, которые превращают друг друга в совершенных двойников, тем самым навлекая на себя чуму. В конце пьесы Герцог приравнивает смерть любовников к чуме, постигшей их семьи:
«…посмотрите,
Как Небо вас карает за вражду».
Оба утверждения, по сути, равнозначны. Оба произносятся in extremis, как разоблачение правды: первое — умирающей жертвой; второе — как последний приговор представителя суверенной власти и потенциального козла отпущения.
Смерть любовников — это и есть чума, в том смысле, что она представляет собой кульминацию бедствия. Став наконец видимой, чума захлёбывается в силу своей предельности; она одновременно — болезнь и исцеление. Жертвенная смерть приводит к концу кризиса и примирению двойников. Обращаясь с Капулетти, Монтекки очень уместно называет Ромео и Джульетту «несчастные жертвы нашей злобы».
Итак, выбор козла отпущения ясно определяется как разрешение трагического кризиса — катарсис в пьесе существует параллельно с катарсисом, производимым пьесой; катарсис, дважды провозглашённый и обещанный зрителям в самом начале, в загадочном коротком прологе, который содержит одну-единственную идею:
И грустная двух любящих судьба
Старинные раздоры прекратила.
Фамилий тех свирепая борьба,
Влюблённых смерть, любви их страстной сила, —
Вот то, что мы теперь вам здесь изобразим,
Прося у вас на два часа терпенья.
Слово «катарсис» изначально обозначало очистительный эффект жертвоприношения. Шекспир не нуждается в этимологии, чтобы обнаружить, что любая драма — это воспроизведение процесса поиска козла отпущения. В своих трагедиях Шекспир воссоздаёт катарсический механизм трагедии в целом; но он настолько его акцентирует, что тот оказывается на поверхности, заставляя нас задавать вопросы, которые препятствуют катарсическому эффекту; вопросы, которые, будь они заданы со всей серьёзностью, разорвали бы всю драматическую структуру на части.
В своих комедиях Шекспир открыто высмеивает тему жертвоприношения. Фрагмент с Пирамом и Фисбой из «Сна в летнюю ночь» — пьесы, следующей сразу за «Ромео и Джульеттой» — пародирует катарсическую систему этой предыдущей пьесы. Шекспир ближе подходит к полному раскрытию ценностей жертвоприношения, скрытых за чумой и другими мифологическими и трагическими метафорами, чем наши современники, включая даже Арто, чьи лобовые атаки на жертвенные ценности в конечном счёте сами возвращаются к грубейшим формам жертвоприношения. Что бы мы ни думали, мы не в том положении, чтобы критиковать Шекспира. Скорее он может критиковать нас. Вместо того, чтобы судить его с неизбежно высшей, современной точки зрения, нам следует попытаться понять некоторые из его интуитивных прозрений, значение которых очевидно ускользает от нас.
© René Girard
Оригинал эссе Рене Жирара можно найти в этой книге.



