Несмотря на то, что Уоллес Стивенс всю жизнь работал юристом в страховой компании, он успел не только стать прижизненно знаменитым поэтом, но и побуянить: однажды он даже сломал руку о челюсть Эрнеста Хемингуэя. В новом выпуске «Книжной полки Тео» наш свежий перевод из первой прозаической книги Уоллеса Стивенса «Необходимый ангел: эссе о реальности и воображении», изданной в 1951 году. В этом эссе поэт размышляет о такой функции человеческого сознания, как воображение, и ставит его в основу мышления.
Паскаль называл воображение госпожой мира, но в то же время никогда не отзывался о нём положительно. Он утверждал, что воображение —
обманчивый элемент в человеке, источник заблуждения и лжи.
Как бы то ни было, если уважение к судьям может быть порождено их мантиями и горностаями, правосудие гарантировано одним видом зданий суда, а покой народных масс можно обеспечить, всего лишь нарядив нескольких людей в униформу и отправив их патрулировать улицы, — в наших глазах, в отличие от Паскаля, это делает воображение неоспоримым благом. Правда однако заключается в том, что народ невозможно контролировать таким образом. Паскаль прекрасно знал, что за председателем суда стояла вполне осязаемая сила. Если он и считал медицину своего времени ложной наукой, он определённо не считал бы так сегодня. В конце концов, понятие Паскаля о воображении было частью его представлений обо всём остальном. Его сестра рассказывала, что, будучи на смертном одре и испытывая сильные страдания, он не раз просил о причастии.
Получается, что, умирая, он отчаянно цеплялся за то, что сам же называл заблуждением. Когда я выше говорил о том, что Паскаль никогда не отзывался о воображении положительно, я не упустил того факта, что эта «могучая сила, враждебная разуму» не казалась и не могла казаться ему всегда одинаковой. В момент безразличия он говорил, что воображение руководит всеми вещами и создает красоту, справедливость и счастье. Таким образом, пример Паскаля показывает, как добро воображения может быть злом, а зло — добром.
Воображение — это власть ума над потенциальными возможностями;
Вторая трудность, связанная с ценностью, — это разница между воображением как метафизическим явлением и как властью ума над объектами внешнего мира. Эрнст Кассирер в своём «Опыте о человеке» пишет:
«В романтическом мышлении теория поэтического воображения достигла своей вершины. Воображение — отныне не просто особый род человеческой активности, создающей художественный мир человека, — это теперь универсальная метафизическая ценность. Поэтическое воображение — единственный ключ к реальности. На концепции «продуктивного воображения» основан идеализм Фихте. Шеллинг в «Системе трансцендентального идеализма» провозгласил, что искусство — подлинный итог философии. В природе, морали, в истории мы остаёмся в пропилеях философской мудрости; и лишь искусство выводит нас в само святилище. Истинное поэтическое произведение — это не результат работы отдельного художника, это сама вселенная, единственное произведение искусства, которое вечно самосовершенствуется».
Воображение в метафизике естественным образом подталкивает нас к тому, чтобы принять его в качестве единственного ключа к реальности. Но тут мы сразу сталкиваемся с логическими позитивистами. В своей книге «Язык, истина и логика» профессор Алфред Айер пишет:
«Нынче модно говорить о метафизике как о своего рода неудавшемся поэте. Поскольку его утверждения лишены буквального смысла, к ним неприменимы никакие критерии истинности или ложности; но они по-прежнему могут выражать или возбуждать эмоции и, таким образом, подчиняться этическим или эстетическим стандартам. Предполагается также, что они имеют значительную ценность как средство нравственного внушения или даже как произведения искусства. Таким образом, метафизику пытаются компенсировать его изгнание из философии».
Из этого следует, что воображение как метафизическое явление, с точки зрения логических позитивистов, имеет по крайней мере кажущуюся ценность. Профессор Джоад по поводу книги Айера отметил, что она учит, что:
«Если Бог — это метафизический термин, то есть если Он принадлежит реальности, лежащей за пределами мира чувственного опыта, то утверждение о том, что Он существует, — не истинное и не ложное. Эта позиция — не атеистическая и не агностическая, но идёт глубже обеих, утверждая, что любые разговоры о Боге, за или против, — пустая болтовня».
Чтобы идти дальше, мы должны очистить воображение от следов романтизма. Мы уверены, что воображение как метафизическое явление не сильно пострадает от нападок логического позитивизма. В то же время, это слабое утешение, если оно окажется отождествлённым с романтизмом. Воображение — одна из великих сил человека. Романтик преуменьшает её. Воображение — это свобода ума; романтизм — это неспособность использовать эту свободу. Романтизм для воображения — то же самое, что сентиментальность для чувства.
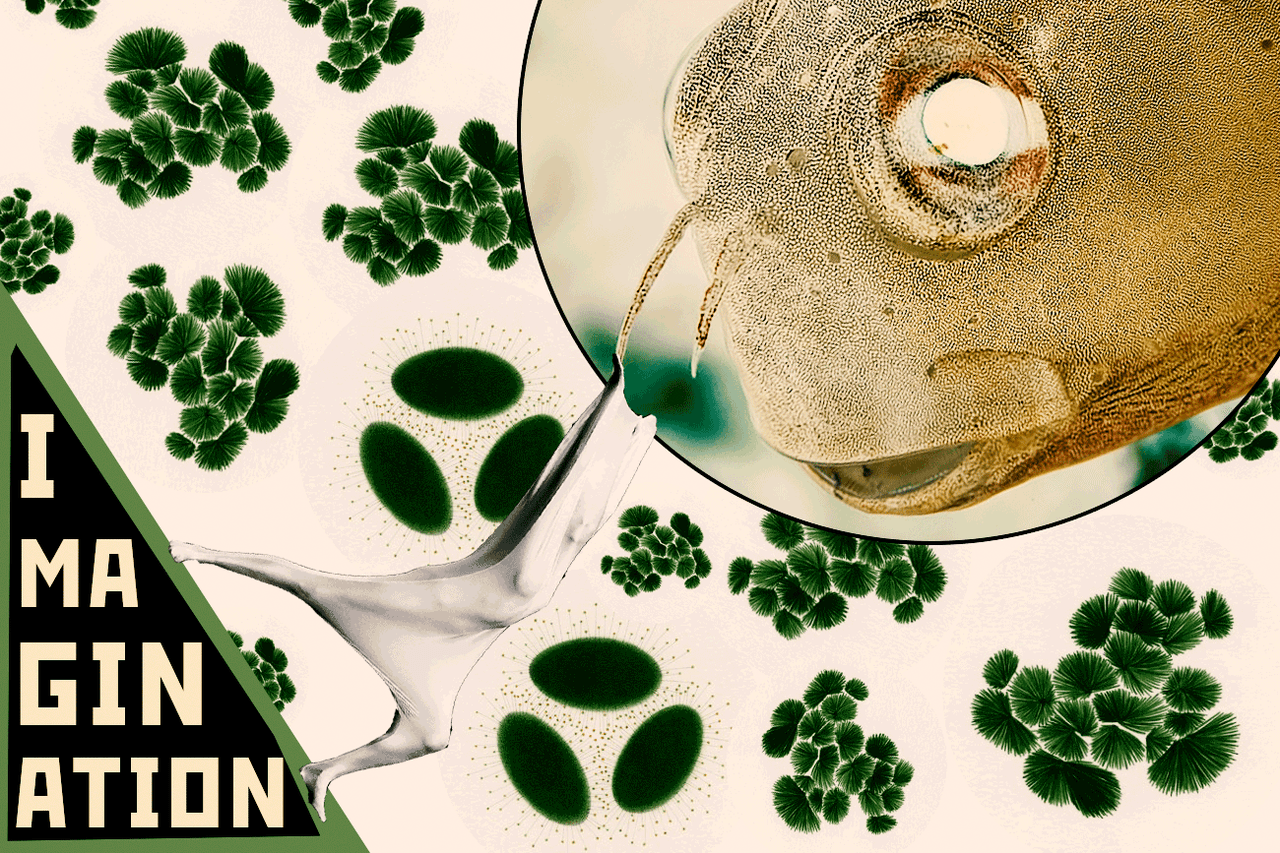
Воображение — единственный гений.
Если нам удалось избежать смерти от рук логических позитивистов и очистить воображение от налёта романтизма, перед нами по-прежнему остаётся Фрейд. Что бы он сказал о воображении как ключе к реальности и о культуре, основанной на воображении? Не стоит спешить с выводами и унывать. Нельзя ли допустить, что он мог считать, будто в цивилизации, построенной на науке, могла бы существовать наука об иллюзиях? В «Будущем одной иллюзии» он говорит:
«Пока помимо затормаживания мысли в области сексуальных тем на человека в его молодые годы воздействует не меньшее затормаживание в области религиозных и связанных с ними правовых тем, мы, по сути дела, не можем сказать, каков он сам по себе».
Рассматривать воображение как метафизическое явление означает считать его частью жизни, а считать его частью жизни означает осознавать степень искусности. Мы живём в мире ума. Проиллюстрировать, что это значит, можно, представив себе разговор между двумя людьми, слепыми от рождения, которые способны описать свои мысленные образы без использования образов, позаимствованных у других людей. Описанный ими мир не был бы тем миром, который мы знаем. Или ещё один пример. Человек в Париже представляет себе вещи иначе, чем человек из Уганды. Если бы каждый из них мог передать своё воображение другому, чтобы человек в Париже, лёжа один в темноте, мог услышать звук футбольного мяча, а человек из Уганды оказался в Базельском соборе — какие бы слова нашёл парижанин, чтобы описать своё ощущение, и как бы угандец воспринял невероятный экстаз от убранства собора?
Живя в мире ума, мы живём воображением.
Так что же означает жить с воображением, но не слишком близко к его фонтанам, чтобы сознание человека не было преисполнено сплошной грандиозности? Только разум стоит между воображением и реальностью, за право на которую обе силы постоянно борются. Нас не слишком интересует эта борьба, поскольку мы знаем, что она будет продолжаться вечно без возможности какого-либо исхода. Мы считаем её не более чем рутиной, и чем больше мы о ней думаем, тем меньше способны увидеть её героический аспект и тот факт, что на кону стоит дух, а поражение может повлечь за собой утрату мира. Но действительно ли идёт какая-либо борьба или это всё просто пустая академическая болтовня? Разве оба явления попросту не существуют в уме параллельно, как брат и сестра?
В «Портрете художника в юности», говоря о сосуществовании противоположностей, Джойс рассказывает историю, в которой упоминается Паскаль:
— Значит, Паскаль — свинья, — сказал Крэнли.
— Алоизий Гонзага, кажется, поступал так же.
— В таком случае и он свинья, — сказал Крэнли.
— А церковь считает его святым, — возразил Стивен».
Почему мы вообще говорим об обретении духа и потере мира в контексте взаимоотношений между разумом и воображением?
С исторической точки зрения, разум нескольких людей всегда был разумом всего мира.
Воображение, вовлечённое в материалистические идеи коммунизма, и воображение, вовлечённое в идеалистические идеи, — это два совершенно разных по своей природе явления. Воображение не универсально, просто существуют разные типы воображения. Самое распространённое представление об объекте, стимулирующем воображение, — это нечто большое. Но в случае с японцами дело, очевидно, обстоит иначе, ведь для них это нечто маленькое. Для индусов это что-то удлинённое, для китайцев — круглое, а для голландцев — квадратное. Уместно будет также провести параллели между Библией и поэзией. Неправильно будет сказать, что Библия — самая распространённая книга в мире — самая бедная. Но нельзя также сказать, что она обязана своей популярностью содержащейся в ней поэзии. Если бы поэзия обращалась к тем же надеждам и страхам, что и Библия, то их популярность могла бы быть равной. Но поэзия не занимается верованиями. Она также никогда бы не смогла изобрести древний мир, полный фигур, ставших близкими читателям на столетия. Поэтому, когда критики поэзии упрекают её за то, что она не делает того же самого, что Библия, они упускают из виду тот факт, что библейское воображение — это одно, а поэтическое воображение — совсем другое. Мы не можем взглянуть в прошлое или в будущее никаким другим образом, кроме как при помощи воображения, но, опять же, воображение, обращённое назад, — не то же самое, что воображение, обращённое вперёд. Говоря о жизни воображения, мы имеем в виду не жизнь человека под влиянием воображения, но жизнь самого воображения. А говоря о человеческой жизни, пронизанной воображением, мы должны думать о жизни, пронизанной не одной вещью, но множеством вещей. Данное различие предполагает различие в ценности.
Воображение, довольствующееся политикой, не может иметь равную ценность с воображением, тяготеющим к вселенскому разуму.
Рассуждение о воображении как метафизическом явлении увело нас немного в сторону. Но это объясняется тем фактом, что, во-первых, деятельность воображения в жизни более значима, чем в искусстве; во-вторых, жизнь пронизана воображением; и в-третьих, его ценность в метафизике не такая же, как в искусстве. Несмотря на вездесущность воображения в жизни, разговоры о нём в этом отношении намного более редки и менее содержательны, чем разговоры о нём в искусстве. В жизни имеет значение правда, как она есть, тогда как в искусстве — правда, как мы её видим. Здесь есть существенная разница, несмотря на то, что люди часто бессознательно ищут воображение в жизни и реальность в искусстве. В жизни функции воображения очень разнообразны, в то время как в искусстве они четко определены. Ценность воображения в жизни неясна, в то время как в искусстве она эстетическая. Большинству людей их жизни навязаны свыше, а существование эстетической ценности в таких условиях маловероятно. Однако есть жизни, которые существуют благодаря осознанному выбору живущих. Например, жизнь профессора Сантаяны — это жизнь, в которой воображение имело функцию, схожую со своей функцией в произведении искусства.
Ценности, о которых принято говорить в отношении жизни, — это этические и нравственные ценности. А общественные ценности — это попросту этические ценности, выраженные членом партии. В период между двумя войнами мы жили в эпоху, когда предпринимались попытки применить ценности искусства к жизни. Эти экскурсы ценностей за пределы их родных областей — как погода: мы страдаем от них и наслаждаемся ими.
Предыдущие поколения сказали бы, что воображение — это аспект конфликта между человеком и природой. Сегодня мы скорее склонны говорить, что это аспект конфликта между человеком и обществом. Воображение — это часть нашей безопасности. Оно позволяет нам жить своей собственной жизнью. Оно у нас есть, потому что без него у нас есть недостаточно. Есть, конечно, люди, которым достаточно реальности и разума. Однако и развитое воображение и развитый разум — это духовное благо. Нельзя сказать, которое из них важнее, а иногда даже и отделить одно от другого. Когда здание перестает быть продуктом разума и становится продуктом воображения? Если мы возведём здание до невообразимых высот, то оно станет продуктом воображения, ведь сама высота — это тоже продукт воображения. Воображение руководит жизнью точно так же, как метемпсихоз руководит смертью. Ницше бродил по склонам Альп в объятиях реальности. Мы же выползаем из офисов и аудиторий и становимся бдительными в опере.
Воображение — это средство, с помощью которого мы привносим нереальное в реальность, проецируем идею бога на идею человека.
Воображение создаёт образы, существующие независимо от своих оригиналов, ведь нет ничего более определённого, чем тот факт, что воображение приятно самому себе. Когда наша тётя пишет из Калифорнии, что её герани теперь достают до окна второго этажа, мы сразу же представляем себе, как они достают и до крыши. Всё это разнообразие, которым я намеренно наполнил этот абзац, очень характерно для воображения. Это может натолкнуть на мысль, что воображение — это невежество разума. Однако воображение изменяется вместе с умом. Мир перестаёт быть внешним объектом, полным других объектов, и становится образом. В итоге, именно с этим образом мира мы имеем дело в первую очередь. Однако неправильно будет сказать, что главная цель воображения — создать такой образ. Среди множества целей невозможно выбрать одну, которая была бы главной. Воображение не смогло бы и не позволило бы нам довольствоваться ей одной, ведь воображение — это неутомимый революционер.
Моё последнее утверждение состоит в том, что воображение — это сила, позволяющая нам воспринимать нормальное среди аномального, порядок среди хаоса.
Это утверждение может показаться парадоксальным, ведь мы привыкли рассматривать воображение как что-то аномальное. Свершение Рембо в поэзии и Кафки в прозе — намеренные вторжения в область аномального. Вполне естественно ассоциировать воображение с теми, кто расширяет пределы его аномальности. Это всё равно как ассоциировать свободу с теми, кто ей злоупотребляет. Литература, изобилующая примерами аномальности, какой является литература современная, придаёт рациональному уму видимость нормальности, которой тот не заслуживает. В действительности мы живём представлениями воображения, прежде чем разум осмыслит их. Если это так, то разум — всего лишь организатор воображения.
Возможно, воображение — это чудо логики, а его утончённые прозрения — это расчёты, не поддающиеся анализу, точно так же как выводы разума — это расчёты, основанные на анализе.
В таком случае, нетрудно понять замечание, что «в любви и воображении не может быть слишком богатого, слишком возвышенного или слишком грандиозного». В утверждении, что мы живём представлениями воображения, прежде чем разум осмыслит их, слово «представления» означает представления нормального. Более того, утверждение, что воображение — это сила, позволяющая нам воспринимать нормальное среди аномального, — это то же утверждение, выраженное другими словами. Оба подразумевают, что ежесекундные откровения в жизни — это проявления нормального. Это может показаться абсурдным тем, кто привык настаивать на одиночестве, ничтожности и ужасе мира. Они спросят, в чём ценность воображения для них, и как можно отрицать то, что они живут в воображении зла? Нормально зло или аномально? И каким образом утончённые прозрения поэтов и, если уж на то пошло, даже нимбы святых могут помочь им? Но говоря о восприятии нормального, мы имеем в виду инстинктивные порывы, которые служат движущей силой жизни. Какую ценность имеет для одиноких, несчастных и живущих в страхе что-либо, кроме воображения?
Wallace Stevens ©
Оригинальный текст эссе можно прочесть здесь.




