Вымирание российских деревень давно стало тенденцией. По данным Центра экономических и политических реформ, в некоторых регионах этих обезлюдевших населённых пунктов стало больше двадцати процентов. Но иногда вымирание деревни сталкивается с другой силой — желанием обеспеченных россиян припасть к корням. Автор самиздата Анастасия Семенович отправилась в небольшое поселение в Ярославской области, где заезжий меценат решил возродить традиционную культуру, и увидела электронные колокола, игры в новых помещиков, а также местных, которых эти новые помещики обучили окать и обращаться к гостям «сударь» или «сударыня».
Одна редактор (или редакторка — тогда феминитивы ещё не были в моде, и ей он бы показался неблагозвучным) как-то сказала, что об искусстве я пишу без ошибок и опечаток, а обо всём остальном — с ними. Дело было то ли в скорости, с которой нужно было выдавать редакции «всё остальное», то ли в том, что про искусство писать мне нравилось. Мы сидели в душном офисе с тремя цветками на подоконнике, которые поливала уборщица и иногда я и которые после развала маленького и не то чтобы гордого коллектива я забрала с собой. Наше маленькое издание было убыточным (да и не было оно нашим), большие серьёзные тексты мы писали редко, и я старалась иногда писать об искусстве в профильные СМИ — для духа и души. Для души — потому что «культурная» журналистика казалась мне недооценённой и угнетённой, а для духа — потому что денег в ней нет и работать приходилось бесплатно.
Я старалась пользоваться сущностями журналиста и арт-критика по очереди, в нужный момент перекрывая одной из них фасад, как в российских городах перед президентским кортежем огораживают декорациями труху, оставшуюся от архитектуры. Только декорации для делегаций смотрят и не видят двухмерными окнами, я же оставляю прорехи — чтобы та, другая личность могла дышать и подсматривать. Иногда я замечаю, как за долю секунды одна сущность застывает маской, коркой. Я спешно с мясом её отрываю и продолжаю интервью от имени нежной, незаветренной другой. Удивляюсь, как собеседник не заметил, что говорил с двумя разными людьми.
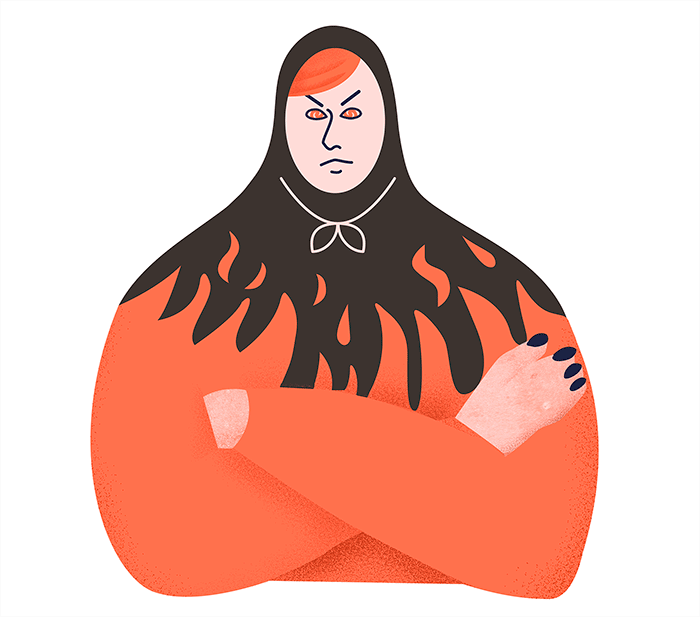
В общем, однажды я везла нас обеих в командировку в Ярославскую область. Там меценат за свой счёт восстановил и облагородил старинное село, и этот сюжет казался мне той самой редкой историей — если не со счастливым концом, то симпатичной промежуточной станцией. Сюжет обещал толику искусства и искусности, чем меня и завлёк. Мысленно я заранее составила материал: про чудо русской мастеровитости и трезвости, лубочный полустанок в округе Золотого кольца, полузабытую и красиво воскресшую культуру меценатства, про свежие яркие изразцы на фронтонах. Наверняка там целая россыпь пахнущих погребом старинных церквей с облупившимися, по-византийски солнечными фресками и славные люди, которые живут по совести. Когда я прыгнула на верхнюю полку в плацкартном вагоне, мозг компилировал абзацы несуществующей пока фактуры.
Ярославль мне понравится. Белобоким Кремлём, хоббитовой версией высокого и пологого берегов Волги, людьми, гордыми тем, что живут не в Москве. Под слоем свежей, до рези в глазах белой штукатурки вопили в небо маскароны на здании драмтеатра, пялясь в низко и скоро летящие облачные клочья. Я нашла автовокзал и ждала автобус, который шёл бы до моей деревни.
Десять лет назад село было провинциальным крапивником: полуразрушенные церкви, деградирующие местные, ямы и проплешины на дорогах смололи последние крохи асфальта. Канализации нет, молодёжь уезжает в Москву, минуя добрый нарядный Ярославль. И вот у села появился хозяин. Он купил дом, потом соседний, потом ещё несколько. Штукатурка, подсветка, асфальт с пылу с жару, изразцы. Ручейки, впадающие в зелёную местную речку, были объявлены целебными источниками — вокруг мутных струек построили минареты из камня и бетона, под монументами вырыли пруды и поставили лесенки, как в бассейне. Пару родников освятили, и потянулись богомольные туристы на рэндж роверах за благодатью.
Домики по берегам освежили, древесина по молодости золотилась на солнышке, не ведая о высохших серых досках, стоявших тут лет сто и снесённых хозяйскими рабочими. Спешно задымила россыпь банек. За несколько лет хозяин скупил всю сельскую землю. Построил дома на продажу таким же москвичам, захотевшим поиграть в помещиков. Беспощадный новодел и реконструкция до пластиковой фотогеничности, неловкое планирование, выдающее комплексы «квартирного» мышления. Местные подростки в угоду новым жителям и туристам говорят нараспев и окают. «Барин», «крестьянин», «ибо».

Меня встретила барыня, хозяйка мест и их хозяина. «Вот там наше поместье, а это дом купца. Посмотрите, икона святого П. и наше Евангелие. Это писано специально для нас. Был съезд потомков наших крестьян. А эту морковку отсюда прямо в ресторан несут». Властная женщина в душегрейке из малиново-чёрного с зеленью павлопосадского платка чуть ли не под руку водила меня по музеям, трактирам, церквям, избегая неблагополучных местных, которые не окали и не говорили нараспев. Лёгким кивком головы давала знать, что мне нужна самая полная информация про царское прошлое её приусадебной деревни, самые хрустящие солёные огурцы и мытая, как младенчик, морковь. Если бы я захотела — наверное, передо мной спели бы хором и станцевали те самые потомки крестьян.
Она говорила так, будто село перешло к ней напрямую от митрополита Филарета. Она кормила меня в местном ресторане, намекнув в конце обеда, что ей надо бы «посмотреть» текст перед публикацией. Я хотела с улыбкой сказать, что я не её пресс-служба и отправлю ей только расшифровку нашего интервью. Но не хватило дыхания — в её владениях душно, и не набрать воздуха, чтобы сказать ей наперекор. Чай мы пили на улице: дымил самовар, одетый в фотогеничные баранки, парень в огромной вышитой рубахе ярмарочно зазывал в трактир, хотя вокруг никого не было. Мы с хозяйкой прошли мимо, и она смотрела сквозь своего скомороха. Потом о чём-то тихо и быстро говорила с трактирщицей через прилавок. Я ждала, что парень наконец рассмеётся посреди этого спектакля, но, даже когда мы остались в дверях одни, он продолжил звать меня «сударыней». Не подыгрывала только речка, вода в которой безразлично и сладко подгнивала. Трактир, баня и наш самовар отражались в этой мути. Река хотела показать, как зеркало сущность вампира, нутро душного села. Это было бы как узнать, живя у экватора в бунгало над бирюзовой тропической водой, что улыбчивые местные уборщики и официанты — потомки племени каннибалов.

Я ещё утром, выйдя из автобуса, приметила колокольню с шатровой крышей, похожей на плохо заточенный карандаш, и сейчас сказала, что заберусь на неё — ведь оттуда такие виды, я не могу их упустить. В церкви было гулко и чисто, и пахло погребом, но вместо византийских фресок со стен смотрели печёными ликами свежие иконы. Люди, крестившие детей, торопливо подносили их к хозяйке — то ли как доказательство своего процветания, то ли отрабатывая какой-то другой, сакральный сценарий. Батюшка разрешил походить у алтаря с фотоаппаратом, и по быстрому взгляду на мои тесные джинсы я поняла: без хозяйки он бы меня на порог не пустил. На колокольню никто не забирался с тех пор, как закончили строить внутреннюю лестницу. Звонаря нет — к колоколам идут провода, и батюшка сигналит им через приложение. Я лихо размахивала тяжёлым объективом, прыгая через ступеньку, на рукава наматывалась паутина. Подниматься бегом, зная, что внизу тяжело шагает, скучая по ресторану, хозяйка, было легко и приятно. Наверху как будто легче дышалось. Казалось, на высоте куполов хозяйка не властна над селом. Трёхэтажные панельки немытыми окнами отворачиваются от пряничного центра к трассе. Где-то под небом — плац и военная часть. Ветер пригнал тучи, мелкий дождик торопился пролететь над селом, пока хозяйка не прогневалась. Темнело, на двух дальних улицах виднелись несчастные, пошатывающиеся силуэты.
Хозяйка отпустила меня. Моей профессиональной пытливости она перестала опасаться ещё в ресторане, когда я не отказала ей в согласовании текста до публикации. Она решила не везти меня с эскортом до Ярославля, а умильно убедилась, что я вот-вот должна сесть в автобус до города. На прощание она подарила мне монетку с символом села, и я, наверное, должна была приплясывать: «Добби свободен!» Мы с монеткой остались на голой ночной остановке, хозяйка, в последний раз полоснув по роговице малиновыми пятнами павлопосадского платка, довольная ушла в недра гостиницы.
На остановке — подростки с полупустыми банками «Ягуара». Мат, запах изо рта, размашистые движения. Мне казалось, хозяйка на целый день посадила их в какой-нибудь подвал, чтобы я их не увидела. Они глумливые и пьяные, но не в вышиванках. Мне приятно слышать пьяный мат вместо благостного оканья.
Материал получился ровный, умильно и беззубо улыбающийся. С картинками с куполами. Про чудо русской трезвости и мастеровитости, воскресшую культуру меценатства. Чтобы всем захотелось такого хозяина и хозяйку, носить вышиванки, и окать, и зазывать на ярмарки и крещенские купания. И оказалось, что всем и правда хочется «порядка» и изразцов, асфальта и купелей с лесенками, как в бассейне, и ради них готовы «окать», если после работы разрешат «Ягуар».

Через пару лет я случайно узнала, что жизнь в селе пошла наперекосяк. Местный заповедник по-прежнему получал премии и гранты от государства, но что-то сломалось то ли в семье хозяев, то ли у их покровителей, если они были, однако «барин» больше не строил домов с изразцами. Местные бросили окать и притихли, выжидая: уезжать ли работать и жить в Ярославль или в Москву? А если придётся возвращаться, хозяин будет гневаться? Из-под неприятного, но ожидаемого злорадства меня кольнуло сожаление. Вспомнилось, как в школе я готовилась к олимпиадам по истории и читала, что после отмены крепостного права крестьяне просились обратно к барам. И как друзья-архитекторы жалуются, что нет заказов, хотя мне показалось, что квартирные масштабы только перестали быть проблемой их проектов.
Ярославль не изменился: Волга с речными корабликами из советских фильмов про помещиков, миниатюрные головастые церквушки ещё держатся под напором вечного часа пик кольцевой Золотого кольца, где будущее — это прошлое, и хозяева знают этот секрет, поэтому славные люди, чудеса русского меценатства и мастеровитости всегда случаются под рефрен: «барин», «крестьянин», «ибо».
Я почти перестала делать смешные ошибки в текстах и бросила писать красивые истории про искусство. Личность арт-критика, горбатый сиамский близнец, ссохся и завял. Мне её не жаль, хотя есть фантомные боли. Наверное, такие были у крепостных, оставшихся без барина, и у бар без крепостных. Или барыни — раз теперь в моде феминитивы.




