Проще всего сравнить этот текст с фильмом «Жмурки» или текстом песни группы «Кровосток», но на самом деле он куда глубже и жёстче: это дневник, попытка осмыслить своё прошлое, которая в итоге выливается в документальную хронику российских 90-х. Читательница самиздата росла в Казани, в семье типичного предпринимателя времён раннего российского капитализма. Этот рассказ одновременно о том, как сложно бывает принять и понять собственных родителей и изжить в себе детскую травму, и о том, как выглядел российских бизнес того времени.
Четыре разбитых автомобиля, бесконечная вереница шлюх, лёгких денег, большой дом и однокомнатная квартира в «хрущёвке» — именно таким мне запомнились моё детство и мой отец. Тридцать лет ушло на осознание своего места в жизни эгоцентричного отца, страдающего от алкоголизма и наркотической зависимости рисковать.
Белый «жигули»
Каждый раз, когда мне страшно, я ощущаю солёный привкус крови во рту. Я не помню деталей аварии, не помню, как переворачивается машина, не помню, как мы врезаемся в металлическое ограждение моста, которое отделяет нас от воронки глубокой реки, я не помню, как долго брат ходит в гипсе со сломанными ключицей и рукой, как долго мама лежит в больнице с сотрясением коры головного мозга и разрывом селезёнки, — я ничего этого не помню. Но я помню — и это моё первое яркое воспоминание из детства, — я очень хорошо помню, как мне кажется, что я задыхаюсь и что кровь везде, внутри меня и из меня. Это, конечно, паника, приступ которой я ощущаю впервые в пять лет. Мама потом расскажет, что я отделалась довольно легко: порванная губа, сломанный зуб, ушибы разной степени тяжести. На папе при этом нет ни царапинки: да, если у каждого человека в теории есть талант, то его самый главный — это умение выходить сухим из воды.
Тысяча девятьсот девяносто второй год сыграет большую роль в жизни нашей семьи: это год, когда мой отец, номенклатурный инженер предприятия тепловых сетей, завязывает с блестящими серыми и коричневыми галстуками и вступает на опасный путь большого бизнеса. Через пять месяцев после начала его предпринимательского пути мы сдираем в нашей четырёхкомнатной квартире старые обои, ломаем перегородку между кухней и залом и делаем «евроремонт»: дом блестит глянцевыми обоями, комплектами мягкой зелёной мебели и двумя парами новых лакированных туфель отца, которые встают ровным рядком на пороге.

В то время как семьи наших с братом одноклассников еле-еле выживают, мы ложками из трёхлитровых банок поедаем контрабандную чёрную икру; в кладовой комнате лежат коробки с ещё зелёными корками бананов, а в ванной, царапая белый чугун, ползают и наползают друг на друга серые раки, которых нам просто некуда девать.
Папа занимается бизнесом, мама занимается хозяйством: дом сияет, в кастрюлях готовятся супы, на сковородках жарится картошка со шкварками, а на противне пекутся пироги и домашнее печенье. Одежда наша гладко выглажена, руки чисто вымыты, тетради и книги уложены в аккуратные стопочки. Мы — идеально вылизанная семья: черноволосый видный мужчина с широкими плечами, в блестящих лакированных туфлях на ногах и тёмных очках Polaroid на глазах, рядом красивая смеющаяся блондинка-жена в полосатой футболке, концы которой связаны на тонкой талии, такие же светловолосые, херувимоподобные мальчик и девочка — сын играет в футбол, дочь учится читать. Мы отдыхаем в Сочи, летаем в Москву и Санкт-Петербург, плаваем до Астрахани на кораблях по Волге-матушке.
В этом же году отец покупает первый автомобиль: «жигули» белого цвета, ВАЗ 2108, стоимостью пятнадцать тысяч рублей по чеку и сто пятьдесят долларов, в чеке не указанных, а отданных в качестве взятки.— Хороша! — говорит папа. — Чудо как хороша.
Любовь к скорости закладывается в нём с рождения. Он потом ещё много раз сделает так, как небезопасно делать: выйдет на обгон нос к носу со встречным автомобилем, будет гнать через снега и дожди с максимальной скоростью, раззадорится, когда увидит машину дороже, быстрее, красивее, чем у него. Что это? Желание продемонстрировать превосходство, желание испытать чувство адреналина, обычное сумасбродство, бесконечное количество комплексов? Не знаю.
Зато знаю вкус крови во рту.
ВАЗ 21099 цвета «мокрый асфальт»
Это день моего рождения: мы за городом, на нашей даче, я жду папиного приезда, сахарного арбуза с тонкой зелёной коркой снаружи и ярко-красной мякотью внутри и, конечно же, подарка. Наш дачный домик находится на краю большого оврага, вдоль него высажены деревья ирги, фиолетовые ягоды которых рассыпались и лежат теперь плотной россыпью на песчаной дорожке. Проехать к калитке дома на машине невозможно, поэтому, как только я слышу шум подъезжающего к оврагу авто, я спрыгиваю с гамака и босиком прохожу вначале по пушистому зелёному газону, потом по холодным бетонным плитам, по песку и по ягодам ирги, которые лопаются под ногами.
— Папа! — кричу я и вижу, как он поднимается с водительского сиденья своего нового авто, а следом за ним — его лучший друг и ещё три человека сзади: так называемый компаньон и две незнакомые мне женщины.
Праздника в честь моего десятилетия не будет. Будет праздник в честь покупки нового автомобиля ВАЗ 21099 цвета «мокрый асфальт» с номерным знаком Е020ЕС: водка будет литься из хрустальных стопок на салаты, отварной картофель, густо усыпанный свежей зеленью, на жирные куски мяса, нанизанные на острые шампуры. Шлюхи, именуемые вначале как спутницы жизни папиных коллег, к концу вечера откровенно будут именоваться шлюхами, сидеть на мужских коленях и ржать, ржать, закусывая водку моим, мать вашу, арбузом, смачно выплёвывая тёмно-коричневые косточки прямо на землю и вытирая рукавами светло-розовый сок, стекающий по подбородкам.
Вишнёвый Opel с турбомотором
Набережные Челны в 1999 году — не самый комфортный город для жизни: преступные группировки начинают с мелких ларьков и захватывают всё; «старшие» проводят активную мотивационную работу с «младшими»; весь город делится на комплексы, комплексы — на дворы. Моему брату на тот момент пятнадцать, он тоже становится частью этой мерзоватой экосистемы, в том числе и благодаря тому, что мой отец является одним из тех, кто эту систему создаёт.
— Но что, если нет никакого Бога? — плачет моя мама на кухне. Перед ней сидит одна из её младших сестёр, на столе стоит бутылка водки и две рюмки. — Что, если его не вернут?
Это был тот самый год, когда отец стал обладателем первого красного пиджака, леворульного вишнёвого Opel, пригнанного из Германии, и это был год, когда его сын не вернулся домой.— Что случилось? — спрашиваю я.
Тётя подходит ко мне и молча провожает до комнаты:— Ты, — говорит она, глядя прямо в глаза, — будешь сидеть здесь, пока я за тобой не приду.
Я киваю, прохожу в комнату, присаживаюсь на кровать и смотрю в окно: там, за стеклом, цветут кусты фиолетовой и белой сирени, середина лета, стоит жара, все ходят в лёгких футболках и шортиках, дети рисуют на асфальте, девочки прыгают в резиночки, мальчишки гоняют мяч по заросшему травой полю, сымитировав из кирпичей ворота. Я от нечего делать смотрю на свои ноги: на них от шлёпанцев остаются белые полоски, ноги загорели по самые шорты, и только шрам на коленке кажется неестественно розового цвета. Я ложусь на кровать: время тянется долго, я слушаю, как останавливаются и уезжают автомобили и шумит под их колёсами гравий, подслушиваю, о чём разговаривают люди, слышу, как шумит ветер где-то наверху. И я уже почти было засыпаю, когда раздаётся скрип двери:
— Пойдём, — зовёт меня мамина сестра. Я почему-то чувствую себя виноватой, прохожу на кухню.
Мама едва улыбается, обнимает меня и говорит:
— Твой брат пропал. Тебе нужно оставаться дома. Никуда не выходи.Откровенно говоря, я разочарована. Я разочарована, потому что лето, а летом всегда хочется на улицу. Потом я думаю о том, не пропал ли вместе с братом его зелёный велосипед. Брат не разрешает мне его брать. А если он так и не вернётся, то можно ли мне будет наконец-то забрать велосипед себе? Вопрос вертится на языке, но я не решаюсь спросить.
— А кто будет учить меня кататься на велосипеде, если не он? — спрашиваю я маму, и она ревёт навзрыд. — Его похитили? — Вопросы начинают сыпаться один за другим. — А как мы его вернём? А что будет, если мы его не вернём? А как он пойдёт в школу осенью?
Кто? Почему? За что?
И вот приблизительно тогда, когда я разрываю маму вопросами, стучится отец: впервые в жизни (и больше никогда потом!) я вижу в его глазах чувство вины.— Привет, — здоровается он и брезгливо морщится, когда мама отворачивается и смотрит в окно.
— Папа, а где он?
— Он скоро будет дома, я обещаю.
Выполнять обещания — не его конёк, поэтому я ему не верю. Уже потом, много лет спустя, он расскажет мне правило трёх «не»: не верить рыжим мужчинам, толстым женщинам и — ему. И если с первыми двумя персонажами я сталкиваюсь не так часто, то с ложью отца — постоянно.На третьи сутки ожидания всякая надежда пропадает. Я хожу по комнате старшего брата и смотрю на серый компьютер: мы стали первыми среди дворовых ребят, у кого он появился и стал предметом зависти всех школьных друзей. Папа привёз его из Финляндии; брат особенно любит играть в FIFA, а я люблю просто сидеть с ним рядом.
На четвёртые сутки мама подойдёт к шкафу брата, несколько часов простоит перед раскрытыми дверцами, потом ляжет на пол и, наконец, уснёт.
На пятые сутки раздастся стук в дверь: тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук.
Это наш с ним секретный сигнал: мы так общаемся ночью, когда вертимся-вертимся в кровати, считаем овец, баранов и звёзды в небе, а спать всё равно не хочется. Тогда он из своей мальчишечьей комнаты сине-коричневого цвета барабанит первый стук, и я из своей розовой отвечаю ему «тук-тук-тук-тук», а он мне потом два раза. Самое главное — соблюсти ритм. Потом мы отворачиваемся от стен, устраиваемся удобнее в кроватях, я аккуратно складываю ладони под подушкой, а брат любит спать на спине, смотря в потолок. Утром я проснусь, скорей всего, со сброшенным на пол одеялом, свёрнутой между ног подушкой и каплей засохшей слюны в уголках губ, а брат проснётся так же, как лёг. Он спит солдатом, без лишних телодвижений.
— Что ты хочешь? — щебечет она, летая вокруг него. — Жареную картошку хочешь? Балиш? Торт? Твой любимый салат?
Я смотрю на брата так, словно он мне чужой: на его лице размазанные зелёные сопли и чёрные полосы от грязи и пота. Я понимаю: мальчики плачут. Мальчики плачут, когда им страшно, когда им больно. Мальчики плачут, когда им очень хочется домой.— Пить хочу, — говорит он еле слышно и залпом выпивает несколько чашек воды.
Следом за братом, с чемоданом в руках, заходит отец:— Мы переезжаем.
Через три дня, загрузив несколько «газелей» вещами, мы запрыгиваем в папин Opel и с громким рычанием мощного движка этого спортивного автомобиля выезжаем со двора, проезжаем мимо высокой гостиницы и нашей школы, расположенной напротив, мчимся мимо ДК «Энергетик» и мимо роддома, в который нас когда-то принёс аист, оставляем слева железную дорогу и автовокзал, въезжаем на мост, с которого когда-то чуть не улетели вниз. Мы с братом с ногами залезаем на сиденье и, смотря в заднее окно машины, теряем из виду колесо обозрения, которое находится в парке, а рядом с парком школа, а в школе — лучшие друзья. Мы переглядываемся, и нам очень тоскливо.
Папа насвистывает какую-то мелодию, радуется тому, что начинается новый этап, а мама закрывает глаза и всю дорогу делает вид, что спит.
VW Passat, церковные люди и «труповозка»
Спустя два года малиновый пиджак снят, на поясе брюк появляется первый телефон Nokia. Дом становится больше, забор выше, газон зеленее, плитка ровнее, очередная машина дороже. Зато проституток значительно меньше.
Наш дом — место силы для представителей бизнеса и чиновничьей рати: свет в бане, беседке и гостевом домике практически никогда не гаснет. Бо́льшая часть переговоров проходит там, за закрытыми дверьми. То и дело к дому подъезжают автомобили, гораздо дороже нашего, с частными водителями, с охраной в лице бритоголовых братков.Приезжает священник, который заботливо и регулярно очищает наш дом от всякой нечисти. После похищения брата мама отвозит нас в церковь и, вопреки мнению отца, крестит. Запустить священника, как кошку в новый дом, — её инициатива. Папа же переживает за собственного бога и вкладывает большую сумму денег в строительство мечети недалеко от нашего пригородного посёлка.
Соседи, к слову, у нас люди верующие: оба поют в церкви, держат пост и красный угол с иконами и свечками на небольшой кухоньке, молятся, соблюдают все праздники, в Пасху красят яички и радуются каждому дню. У них довольно практичное отношение к смерти: смерть есть радость для того, кто в жизни не грешит, и поэтому они неплохо на этой смерти зарабатывают. Они занимаются доставкой, скажем так, мёртвых грузов от пункта А в пункт Б. Пункт А — это последнее пристанище отошедшего в мир иной, пункт Б — кладбище. Они покупают белую «газель» и переделывают её под оказание ритуальных услуг. Мы с братом про себя называем её «труповозкой», не зная, что очень скоро она окажется на нашем участке.

— Чувствуешь, как пахнет трупами? — спрашивает папа.
— Ага, — говорю я, потому что ни розы, ни тюльпаны, ни мимозы не перебивают тошнотворного запаха, въевшегося в салон «труповозки».
— На самом деле мёртвое тело пахнет иначе, — продолжает он довольно спокойно. — То, что ты сейчас слышишь, это запах ладана и церковных свечек. Но тоже довольно тошнотворно.
Мой отец не верит в Бога: он говорит, что опарыши появляются в мёртвом теле с такой же скоростью, как в теле мёртвой рыбы или мёртвого животного. По его словам, охота есть синоним нашей жизни и самое яркое доказательство того, что нет никакого Иисуса, ада или рая. Что в этом мире есть только охотник и жертва, любящий и грешник, богатый и нищий, тупой и умный, друг и предатель, живой или мёртвый. И нет ни одного пограничного состояния, когда дух покидает тело и возносится к небесам или спускается под землю к чертям, — есть только «Бух!» — и всё. А остальное — дело опарышей.— Завтра ты сядешь за руль. Буду учить езде на машине.
Я до сих пор ни разу не сидела за рулем велосипеда, но отец готов доверить мне свой «фольксваген». Я радуюсь так, как способен радоваться подросток в свои шестнадцать лет. Однако на следующий день папа берёт заработанные с продажи цветов деньги и уезжает в Москву.
Брат же крадёт ключи от «труповозки» — и весь день мы катаемся по частному сектору, то и дело прикупая дешёвое пиво в баллонах. Брат пьянеет — и уже около дома врезается в фонарный столб. По возвращении папа лишает нас всех карманных денег:— Хрен моржовый вам за воротник, — тихо произносит он, пока мы сидим на диване и боимся его гнева.
Но он не гневается в открытую, а лишь отвозит «труповозку» на авторынок и три месяца не говорит нам ни единого слова.
Чёрная «Волга», зелёная «Ока»
Вам когда-нибудь приходилось смотреть на людей в кафе и думать о том, что происходит в их головах, пока они жуют яичницы и пьют кофе: о чём они думают? Так и я — постоянно смотрю на своего отца и спрашиваю себя, о чём он думает. Наверняка о том, что жизнь его, которая сегодня, которая была вчера и которая будет завтра, — что вся эта абсолютно бессмысленная его жизнь состоит из череды идеально продуманных махинаций. Он думает, что он потрясающий стратег.
Но однажды он очень сильно ошибается, и мы снова упаковываем наши вещи, нанимаем одну-единственную «газель» и с самым необходимым уезжаем в другой город, в котором сразу всё становится иначе. Из большого дома с гаражом на несколько автомобилей, зелёным газоном, который мы приводили в совершенство ровно три года, переезжаем в однокомнатную квартиру пятиэтажной «хрущёвки» без ремонта и какой-либо мебели. Мы покупаем два надувных матраца, расставляем бытовую технику и живём несколько месяцев в окружении голых бетонных стен, стиральной и посудомоечной машин, пылесоса, большого телевизора и других предметов былой роскоши. В этот раз мы не переезжаем, а сбегаем — как крысы с тонущего корабля.
Папа снова возвращается на госслужбу: на высокую должность, которая только может быть в этом маленьком городке с населением 85 тысяч человек. Завод предоставляет ему машину с водителем, мы катаемся на чёрной «Волге» и сетуем на то, что поселились в самом тоскливом и грязном городе, который только может быть.— В чём ты ошибся, папа?
— А в чём я ошибся?
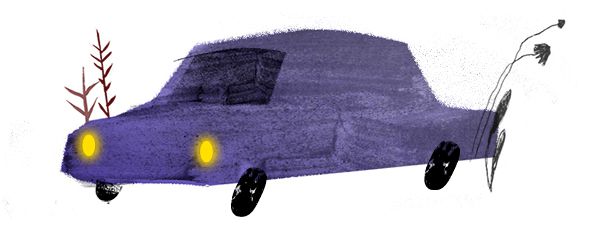
Мы слышим, как он разговаривает сам с собой, восседая на шатающемся унитазе, как когда-то восседал королём на кожаном кресле своего большого офиса.
Как позже узнаем мы, осечка в его делах происходит в тот момент, когда он подставляет сразу нескольких своих бизнес-партнёров: крупная прибыль обычно означает крупные потери — так случается и с ним. Чтобы рассчитаться с долгами, ему приходится продать всё и начинать жизнь с нуля.
Но начинать её с нуля тогда, когда тебе пятьдесят, непросто: он пьёт, ставит все деньги на быстрые авантюры, но ошибается раз за разом, снова и снова. Возвращается домой с проститутками под руку, но и тут ситуация оборачивается не в его сторону: мы с братом уже не дети — и буквально сталкиваем пахнущую дешёвыми духами женщину с лестницы, отца запихиваем домой и начинаем бороться с его алкоголизмом — вначале своими силами, затем с помощью клиники. Лечение даёт результат ненадолго: через четыре месяца пьяным он садится за руль чёрной «Волги» и разбивает её вдребезги. На нём снова ни царапинки, зато блестят глаза, адреналин бьёт, и это видно невооружённым глазом.
На последние деньги он покупает себе зелёную «Оку» и также разбивает её.
Психологи бы что-то сказали, наверное поставили бы какой-нибудь диагноз, влезли бы в его голову и лишили бы его безумия, с которым он относится к жизни. Но разве можно ещё раз отдать его под врачебные эксперименты? Мама лечит его нежностью. Брат — пристальным наблюдением. Я похожа на своего отца больше всех остальных, поэтому расплачиваюсь с ним за всё абсолютным безразличием.
Мятые тапочки, серая клетка
Звук хруста его косточек раздаётся в моей голове эхом: целыми днями, когда я приезжаю к отцу, я слышу, как хрустят его кости. Он встает с дивана — хрст, потягивается направо, налево — хрм, хрм.
Пошёл.
Пошёл, потом остановился, посмотрел на меня, пошёл дальше. Хыыыыррр, присел на табуретку в прихожей, надел мятые тапочки в серую клетку, повернул ключ в замке, зашоркал ногами и вышел на лестничную площадку.«Почему старики издают так много неприятных до тошноты звуков?» — думаю я. А ещё думаю о том, почему мой когда-то красивый широкоплечий папа вдруг стал в моих глазах шаркающим стариком. Когда это всё произошло и почему? Когда на смену дорогим автомобилям пришли эти отвратительного вида дешёвые в клеточку тапочки из магазина «Смешные цены»? Где его чёрные блестящие густые волосы? Откуда в них перхоть и почему так торчат волоски его густых бровей? Где, в конце концов, лакированные туфли? Правда, сто́ит отдать отцу должное: вся его обувь по-прежнему вычищена до блеска.
Мне до ужаса брезгливо и до ужаса стыдно своей брезгливости. Но я молчу: мне ничего не стоит улыбнуться ему, налить чаю и положить два куска рафинада в чашку. У него скрюченные пальцы рук: после длительного приёма антибиотиков одновременно с алкоголем он не может шевелить пальцами левой руки.
Мне НИЧЕГО НЕ СТОИТ УЛЫБНУТЬСЯ ЕМУ, повторяю себе я, когда ножницами разрезаю пакет и достаю оттуда батон.
Я знаю, что он любит под сладкий чай съесть два куска батона со сливочным маслом. А что знает он обо мне: любимое блюдо, имя первой учительницы, название дипломной работы? Он даже не знает, что я развелась, и я не уверена, что он помнит имена моих детей.
Через несколько часов он возвращается и сразу же убегает в туалет.— Па, — кричу ему я, — иди сюда. Я приготовлю тебе закуску и обед.
— Мне не нужна закуска, — спокойно отвечает он. — Зачем мне закуска?
У него под ванной всегда прячется «чекушка» дешёвой водки. Когда к нему приходят родственники, он убегает в туалет и маленькими глотками опустошает её.— Па, ну иди сюда, чего прячешься-то?
И он идёт: с гордо поднятой головой и высокомерным взглядом. Как будто это не он хрустел всем своим старым телом два часа тому назад.— Ну и что ты мне приготовишь?
И я начинаю готовить: борщ, как он любит, чтобы потом с хреном и чесноком; салат с рыбой по маминому рецепту, и пирожки с вишней — по моему. Пока он пьёт водку, закусывает её бутербродами и запивает чаем, я стараюсь приготовить всё вкусно. Нервничаю так, будто мне снова десять и хочется, чтобы папа был всем доволен.— Научилась? — спрашивает он. — Сейчас попробую, — и макает хлеб в тарелку с супом. — Неплохо, — говорит так, словно забыл, что последние несколько месяцев ел суп из пакетов, сосиски да макароны с яйцом. — Как там мама?
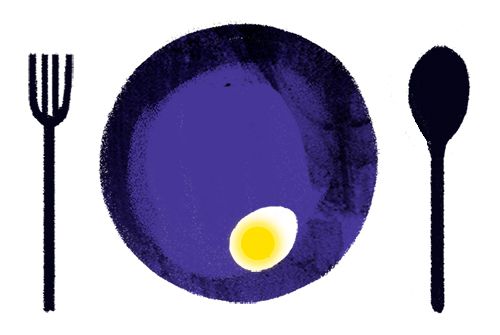
— Папа, — задаю вопрос я, — а как зовут моих детей?
— Роман и Диана.
— Но это наши с братом имена!
— Видишь, — смеётся он, поднимая рюмашку, — как замечательно всё совпало.
— Ты о чём-нибудь жалеешь вообще? Из того, что случилось в твоей жизни?
— Жалею? Разве только что ты не инженер. Других ошибок в жизни я не допускал.
— Правда?
— Хуй сломишь меня. Не дождётесь. Приеду скоро за мамой на жёлтом «мини-купере», охренеете все.
— Паап, ну это же невозможно. Ты не понимаешь, что ли?
— Невозможно, правда, чтобы у такого человека, как я, родилась такая глупая дочь, как ты. Ладно хоть красивая. — Хрст, хыр, хрст. Прохрустел. Встал, прошёл в зал и лёг на диван. — Вот увидишь! Долбаный «мини-купер». Жёлтого цвета. Такого же жёлтого, как твой уродливый жёлтый свитер.
— Этот цвет называется горчичный.
— Да и похуй, — говорит он и отворачивается от меня своим костлявым и некрасивым телом. — Ужасный был суп, есть невозможно. Пошла вон.
Я не знаю, зачем я это делаю, зачем приезжаю к нему дважды в год, делаю ремонт в его квартире, покупаю таблетки и оплачиваю ему мобильную связь. У меня на телефоне нет ни одной его фотографии, он не поздравляет меня с днём рождения, и он никогда не видел младшего внука. Я когда-то пыталась понять, о чём он думает, что он чувствует, почему он такой — но так и не поняла. Если запереть себя в квартире в полном одиночестве, лежать на прохудившемся зелёном диване и весь день глядеть в белый потолок есть один из способов быть счастливым, то имею ли я право вмешиваться в эту утопического вида жизнь? Вот только мне до последнего будет казаться, что каждому человеку — всегда — для счастья нужен другой человек.
Дело лишь в том, абсолютно ли каждый человек, слоняющийся по самым беспросветным потёмкам, на самом деле хочет быть счастливым? И это не риторический вопрос. Это вопрос, требующий ответа.




