По просьбе самиздата Светлана Яцык рассказывает историю чумного бунта в Севастополе. Как город-форпост за год карантина погрузился в тотальный хаос, где матросы устраивали массовые драки с могильщиками, жители взламывали арсеналы и умирали от голода, в то время как дворяне пытались нажиться на поставках продовольствия, плели интриги и использовали карантин в личных целях.
17 мая 1828 года Севастополь закрыли на карантин. Его взял в кольцо заградительный отряд, состоявший из небольших резервных батальонов и рекрутированных на месте крестьян — крымских татар. На ключевых дорогах расположились погранзаставы. Народ, конечно, возмутился: горожане боялись, что татары, кормившие город, либо перестанут привозить продукты, либо взвинтят цены.
Городское начальство поначалу относилось к карантину спустя рукава: военный губернатор Грейг, у которого был опыт соблюдения карантина судов без изоляции города, позволял себе впускать корабли в бухту, не выдерживая их на обсервации. Отдельным офицерам и чиновникам он дозволял сходить на берег без карантина, ограничиваясь окуриванием их одежды. Впрочем, серьёзных изменений в городской жизни не последовало. Караульные на постах спали, стояли без формы или вовсе отсутствовали, поэтому при желании мимо них просачивались даже беглые арестанты: они бежали из города, потому что их заставляли работать «мортусами» — чумными докторами и могильщиками.
Вплоть до лета 1829 года жители окраин гоняли через заставы скот, крестьяне въезжали в Севастополь на телегах с провиантом, и жизнь шла своим чередом. Но в июне 1829-го, несмотря на то, что в городе ещё не зарегистрировали ни одного случая смерти от чумы, карантинные меры ужесточили. На должность начальника карантинного оцепления был назначен князь Херхеулидзев. Он установил «полный карантинный термин», при котором все желающие выехать из города должны были провести в карантине 19 дней, если не были готовы отдать свою одежду на сожжение, и 14 дней, если соглашались отдать одежду и пройти окурку. При этом в город продолжали прибывать военные суда, имевшие на борту сотни пленных. Подвоз сельскохозяйственных продуктов и дров в южный форпост империи прекратился.
Тогда ещё никто не знал, что скоро город окутают облака серной кислоты, целые районы погрузятся в хаос, в котором могильщики проволокут по улицам труп нагой роженицы, жители поднимут восстание, и доктора, военные, матросы и их семьи будут вынуждены каждый день сражаться за свою жизнь.
Коррупция и интриги в запертой крепости
Двести лет назад Севастополь также имел особый статус: несмотря на то, что он располагался на территории Новороссийско-Бессарабского генерал-губернаторства, власть графа Михаила Воронцова, возглавлявшего эту землю, на Севастополь не распространялась. Город находился в юрисдикции Морского министерства и подчинялся главнокомандующему Черноморским флотом военному губернатору Алексею Грейгу. Однако именно Воронцов приказал взять Севастополь в карантинное оцепление. Он мог бы оцепить только ту бухту, в которой отстаивались на карантине суда, прибывшие с фронта, но принял решение оцепить весь город.
В 1828–1829 годах Российская империя воевала с Османской, где в это время свирепствовала чума. Чтобы болезнь не проникла вглубь страны, Воронцов решил досматривать всех въезжающих и выезжающих.
Городской верхушке это не нравилось: граф Витт, который давно точил зуб на Воронцова, постоянно пугал его доносами и мечтал подсидеть, писал императору, что карантинные меры стесняют его возможности и действия по продвижению службы (полная версия письма есть в распоряжении редакции).
Когда в городе началась настоящая изоляция, с ней пришла коррупция на заставах. Прежде чем попасть к матросам, все необходимые товары проходили через множество рук: от поставщиков и интендантских чиновников до ведавших хозяйством офицеров, и каждый пытался немного нажиться.


Сам городской голова Василий Носов не был чист на руку. Согласно материалам последовавшего позже расследования, он заготавливал дрова в собственном имении — по его утверждению, чтобы выжигать известь. Когда выяснилось, что поставщики, с которыми заранее договорились военные, не смогут в условиях карантина обеспечить казармы топливом, Носов любезно согласился продать свои «личные» дрова: осенью он торговал ими по 40 рублей за кубическую сажень, а зимой продавал их и за 80, и за 140 рублей. При том, что цена казённых дров составляла 18 рублей.
Эти злоупотребления не были тайной для правительства Российской империи, поэтому в Севастополь с ревизией приезжал флигель-адъютант императора Николай Римский-Корсаков. Он взял 700 проб муки из разных складов, и во всех пробах обнаружилась примесь песка; во многих мука была затхлая и прогорклая; в некоторых — вовсе гнилая. При этом смотрители складов использовали такую уловку: они выдавали квитанции о приёме товара поставщикам только после того, как полностью сбывали весь испорченный. Таким образом, ревизору, обнаружившему брак, можно было заявить, что этот товар ещё не принят.
Римский-Корсаков обнаружил 3209 пудов (то есть 52,5 тонны) солонины настолько тухлой и гнилой, что даже Черноморская хозяйственная экспедиция запретила распределять её по кораблям. Однако от гнилого мяса не избавились, а продолжали хранить на складе. Водка была разбавлена водой, уксус водянист, а в солоде обнаружился песок, черви и тараканьи гнёзда. После рапорта Римского-Корсакова Николай I командировал в Севастополь второго ревизора, контр-адмирала Беллинсгаузена, чтобы найти виновных в обнаруженных злоупотреблениях и беспорядках. Однако повторная ревизия не выявила никаких нарушений, и расследование прекратили — возможно, потому, что Грейг пообещал назначить Беллинсгаузена ответственным за морской карантин (но обещание своё, впрочем, не сдержал).
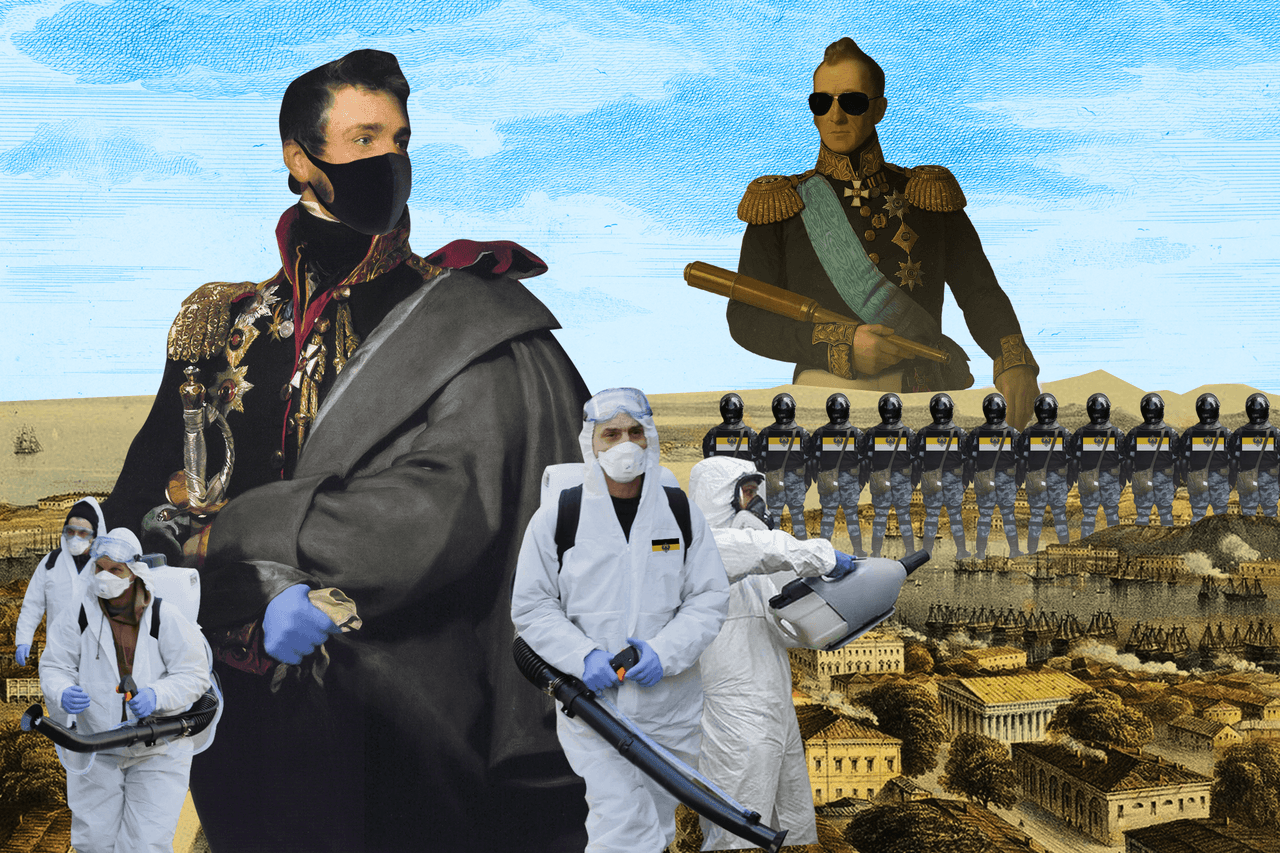
Грейг считал, что в карантине нет необходимости, ведь у него были свои методы борьбы с эпидемией. Он полагал, что чумная зараза распространяется через прикосновение, поэтому, чтобы с ней бороться, нужно избегать прикосновений. Ещё можно облить тело и одежду «деревянным, конопляным или коровьим маслом», а при их недостатке использовать дёготь и смолу.
Письмо Казначеева графу Воронцову, 18 августа 1829 года.
Севастопольские власти всё делают наперекор и хотят во что бы то ни стало уничтожить линию, установленную по приказу ГОСУДАРЯ.
Введение карантина сказалось на размере жалования отвечавших за него чиновников. По 10 рублей в сутки получали инспектор карантина, главный врач и полицмейстер. Четыре адъютанта Воронцова и Грейга, комиссары и временные комиссары карантина, помощники главного врача — по 5 рублей, участковые врачи и окурщики хлором — по 2,5 рубля. Всего карантинная контора тратила в день 170 рублей (если грубо переводить на сегодняшние деньги, это примерно 120 000 рублей).
Голод в Каторжной слободке, жестяной режим и чумные диссиденты
23 августа 1829 года на шедшем в Севастополь корабле «Скором» умерли четыре матроса. По диагнозу врача Никифора Закревского — от тифа, но начальник карантинного оцепления Херхеулидзев записал их в умершие от чумы. Карантинное оцепление придвинули к городской черте. Больных стали свозить на Павловский мыс, причём сначала их размещали в пещерах. Затем на мысу устроили чумной изолятор: в один барак свозили всех больных, а в другой — их родственников и других «контактных». Бараки были рассчитаны на 200 человек; в каждом стояло по одной хлебопекарной печи.
Но даже в этих бараках не хватало места для всех больных. В качестве временных госпиталей использовали корабли, в частности фрегат «Скорый», но условия содержания везде были чудовищными: не хватало одеял, тюфяков, посуды и перевязочного материала. По прошествии недели «карантина» из восьмидесяти больных матросов, привезённых на корабль, в живых осталось только двадцать.
Люди могли оставаться в чумном бараке месяцами. Конечно, многие там умирали, но скорее от плохого питания, чем от чумы: она развивается гораздо стремительнее. Была ли в городе чума на самом деле? Сложно сказать. По свидетельству Грейга, «в течение пяти месяцев люди не слышали, чтобы болели и умирали естественной смертью, а кто бы ни заболел в командах или на дому, объявлялись за чуму». А губернатор Таврической губернии Казначеев в письмах Воронцову, напротив, ругает морских медиков за то, что они записывают умерших от чумы в умершие от горячки.
Но сомневаться в том, что люди в Севастополе массово умирали, не приходится. Кормить скот было нечем, и вскоре беднейшие горожане забили на мясо даже молочных коз и коров. Начался голод. Тяжелее всего приходилось населению трёх слободок: Корабельной, Артиллерийской и Каторжной. В этих беднейших районах Севастополя жили рыбаки, грузчики, матросские и солдатские жёны и яличники — «лодочники-таксисты», за небольшую мзду перевозившие желающих из бухты в бухту. Наступила зима. Дров в городе недоставало. Воронцов велел Казначееву послать в Севастополь топливо, но тот ответил, что город не нуждается.
В Севастополе собрался медицинский совет, возглавляемый доктором Санти, и отверг существование чумы в городе. Но местные врачи не согласились с его решением. Город оставался закрытым и разделённым на девять зон, передвижение между которыми разрешалось только должностным лицам (медицинскому персоналу, поставщикам продовольствия, торговцам и, конечно, чиновникам). Чтобы ездить по Севастополю, нужен был своеобразный пропуск — прямоугольный жестяной знак, выдававшийся комиссией по погашению чумы. Носить такой знак обязывал всех чиновников «Чумной устав» 1818 года.
Облака горящей кислоты, братские могилы на руинах и кожаный костюм чумного могильщика
В январе 1830 года в Севастополь на фрегате «Эривань» прибыл врач Никифор Закревский. Как и существенная часть его команды, он был болен тифом, поэтому его поместили в казармы на Павловском мысу. При этом у него «образовался страшный нарыв от воспаления околоушных и подчелюстных желёз левой стороны». Абсцесс вскрыли и несколько раз в день перевязывали, а промывали его тёплой водой. Закревский спросил, отчего ухаживавший за ним врач не сделает смягчающий отвар, и получил ответ, что все коренья и травы давно израсходовали. Саму казарму Закревский описывает так: «Пока был день и солнышко грело, нам просторно и приятно было смотреть в открытые окна без рам и без стёкол. <…> Ночью же снег и метель проносились сквозь казарму; заколачивать окна было некому да и нечем».
В конце января карантинные казармы посетил доктор Ланг, председатель комиссии «по погашению чумы в Севастополе». Он рассудил, что, коль скоро весь город находится в изоляции, нет смысла в том, чтобы ограждать моряков от остальных жителей Севастополя, и Закревского выпустили. Он снял квартиру в Корабельной слободке пополам с другим врачом, штаб-лекарем Дорогоневским, и собирался постепенно оправляться от перенесённого тифа, но вскоре к нему на квартиру явились врачи Верболозов и Глаголев, которым было приказано отслеживать состояние поправившихся. Они сочли Закревского вполне здоровым, и через несколько дней он получил от комиссии по погашению чумы приказ заняться «врачебным надзором над всей Корабельной слободкой, со всеми принадлежащими к ней кварталами и отдельными дворами, расположенными по берегам Корабельной бухты». Его главной задачей было освидетельствовать умирающих и, в случае скоропостижной смерти кого-либо из жителей, срочно приставлять караул к дому, а всех членов семьи умершего направлять в чумное отделение. При этом трупы умерших Закревскому осматривать было запрещено «для личной его безопасности». О каждой смерти надлежало докладывать доктору Лангу.
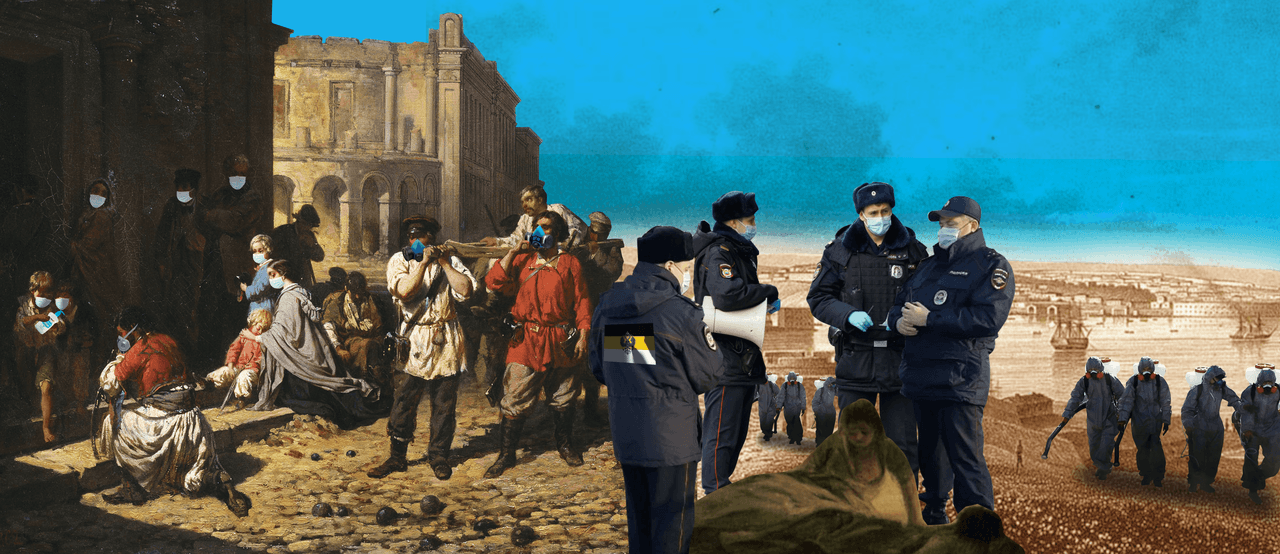
Чумной устав 1818 года называет четыре способа карантинного очищения: окуривание соляной кислотой, окуривание серной кислотой, проветривание и омовение. Омываться рекомендовалось водой с уксусом, но за неимением последнего можно было ограничиться и просто водой. В Севастополе уксуса, как и других товаров, недоставало, поэтому комиссия по погашению чумы приняла решение насильно омывать горожан в морской воде. В январе.
В метрических записях собора Николая Чудотворца Адмиралтейской слободки в январе 1830 года зафиксировано 73 смерти, из которых 16 — дети. 29 умерло от поноса, 15 — от горячки, три — от водянки, но ни одного случая от чумы. Трупы умерших сначала свозили на чумном ялике на Павловский мыс, а уже затем хоронили на развалинах Херсонеса. Занимались этим мортусы, зашитые в кожаные костюмы и облитые дёгтем.
5 февраля 1830 года Закревскому сообщили, что нужно осмотреть двух больных артиллеристов. Он вывел их на улицу: чтобы не заразиться, врачам рекомендовали осматривать подозрительных больных на свежем воздухе. Один из солдат не мог стоять, не опираясь на стену, а манера двигаться и говорить у него была «как у сильно опьяневшего». Он говорил невнятно. Его язык был белым, с бурой полосой посередине, и непроизвольно подёргивался вперёд-назад. Обоих солдат знобило до стука в зубах. Закревский диагностировал холеру, но всё же сообщил об этих больных доктору Лангу. Тот явился к казарме в сопровождении мортусов и признал артиллеристов больными чумой, велел погрузить их на носилки и отправить на Павловский мыс, где оба и умерли в течение суток. Их койки и имущество вынесли во двор казармы и сожгли. Саму казарму окурили хлором и оцепили.
Стрельба в Артиллерийской слободке
7 февраля 1830 года по приказу Воронцова было объявлено, что 10 февраля Севастополь будет закрыт на 21 день. Горожане узнали, что будет запрещено всякое общение между частными лицами. Им рекомендовалось заготовить припасы «на первое время»: впоследствии обещали наладить доставку «необходимого требователям» через специально назначенных комиссаров. 10 февраля город попал в сплошное оцепление. Жителям запретили выходить из дворов и домов. Поначалу дозорные и в самом деле регулярно доставляли жителям слободок продукты и воду, поставками которой занималась «комиссия по предмету продовольствия». Но воды полагалось одно ведро на человека в сутки, и если для питья и варки каши этого хватало, то на стирку уже ничего не оставалось. Во всех домах раз в неделю проводилось очищение хлором. Но постепенно эта практика сошла на нет.
Жители ждали 3 марта «как Пасхи», но карантин не сняли, а продлили ещё на 21 день — по уставу 1818 года, начальник губернии, где свирепствовала эпидемия, мог продлевать карантин столько раз, сколько он сочтёт нужным.
Впрочем, сам Воронцов в марте 1830 года беспокоился не только о Севастополе. Он вместе с женой Елизаветой Ксаверьевной собирался ехать в Вену, чтобы там на водах лечить тяжело больную дочь Александру. Воронцовы уже потеряли двоих детей: их старшая дочь Катерина умерла во младенчестве, а сын Александр не дожил и до года.
Но спасти Александру не удалось: 11 марта в Артиллерийской слободке раздались выстрелы, и Воронцову пришлось остаться в городе. Огонь открыл один из матросов: он отказался идти за женой и дочерью в чумное отделение, справедливо полагая, что это верная смерть (впоследствии выяснилось, что они болели рожей — бросающимся в глаза кожным заболеванием, которое, впрочем, не передаётся воздушно-капельным путём, поэтому изолировать их не было необходимости). Мортусы попытались потащить его силой, но матрос схватил ружьё с примкнутым штыком и принялся обороняться. На место приехал военный губернатор Столыпин и приказал взять дом матроса штурмом. Тот застрелил адъютанта флотского начальника.

13 марта 1830 года Воронцов приказал отобрать у жителей Севастополя всё оружие. Конфискованное поместили в избу в Корабельной слободке.
25 марта истёк второй «карантинный термин», но власти не просто не отменили режим изоляции, а продлили его ещё на три недели. При этом чиновники, имевшие «рабочие пропуска», продолжали ходить на службу, а на ночь возвращались домой к жёнам и детям. Матросским жёнам и вдовам трудно было соблюдать карантин, и они бегали на чужие дворы, чтобы постирать бельё или оказать ещё какую-нибудь услугу, поскольку это был единственный доступный им способ заработать на что-то, кроме крупы и воды.
Закревский продолжал посещать больных и присутствовать при освидетельствовании умерших. Например, однажды комиссия врачей осматривала матроса, лицо которого «было вздуто, синевато-тёмного цвета, глаза закрыты, рот полуоткрыт, губы вздутые, синие, уши синие, шейные вены наполнены кровью, цвет кожи от стечения крови был синий». Закревский был уверен, что перед ним — apoplexia sanguinea, кровоизлияние в мозг, но доктор Ланг поставил диагноз — чума, и отправил в чумное отделение жену и дочь покойного.
Бунт
Карантин в Севастополе сняли только 27 мая — везде, кроме Корабельной слободки: этому району назначили ещё неделю изоляции. 31 мая 1830 года в Корабельной умерла матросская вдова Зиновия Щеглова. Чтобы осмотреть её тело, в слободку направился штаб-лекарь Шрамков. О нём ходила дурная слава: он приставал к женщинам, не трогал только «перешедших уже сорокалетний возраст». Шрамков объяснил её смерть чумой. Вызвали Ланга. Тот обнаружил у неё на шее нарыв и согласился с диагнозом.
Жители слободки пришли в ужас: новый случай смерти от чумы означал, что надеяться на снятие карантина не приходилось. Явились четыре мортуса во главе с чиновником Яновским, чтобы забрать труп. Вокруг Щегловой собралось около пятидесяти женщин, не желавших отдавать её тело. Они вступили с мортусами в драку, поколотили самого Яновского и насмерть забили двух мортусов камнями. Затем они принялись обыскивать Шрамкова: горожане верили, что врачи нарочно отравляют источники, чтобы получать повышенное жалование, и в принципе не доверяли медикам.
Разъярённые женщины раздели Шрамкова. У него из кармана выпали и разбились часы, и горожанки приняли осколки циферблата за следы пузырька с ядом. У доктора требовали расписку в том, что в городе нет чумы. Он отказывался её дать. Его потащили к морю и окунули в воду, а затем заперли в доме, в котором умерла Щеглова.
Военный губернатор Николай Алексеевич Столыпин снова прислал в беспокойную слободку солдат. Женщины подняли крик. Заслышав их голоса, на улицы высыпало едва ли не всё исстрадавшееся в карантине население Корабельной слободки. К женщинам присоединились матросы, и вся толпа сгрудилась вокруг трупа Щегловой. Подошедшие солдаты, впрочем, не имели разрешения использовать оружие, поэтому их предводитель, контр-адмирал Скаловский, приказал, не открывая огонь, пробиться сквозь толпу и отобрать тело Щегловой, чтобы похоронить её по карантинным правилам. Как ни странно, горожане отдали солдатам Щеглову и разошлись.
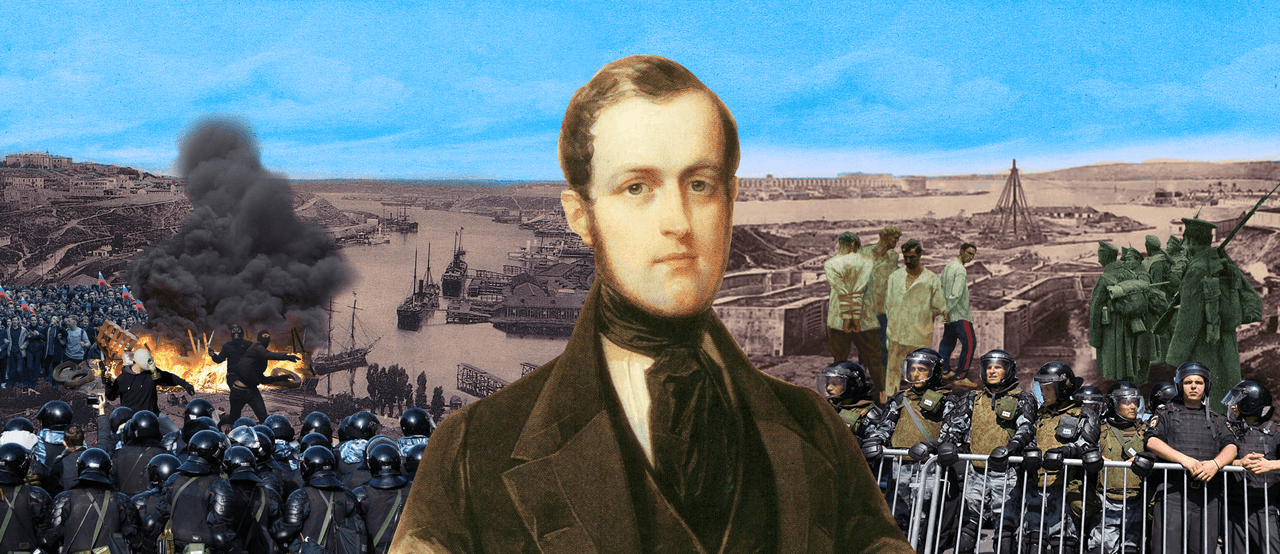
3 июня Столыпин объявил, что карантин в слободке продлевается ещё на две недели. Более того, всех её жителей было решено вывезти за город. Горожане были несогласны. О том, как именно начался «чумной бунт», с уверенностью утверждать нельзя. Советские историки, искавшие в севастопольском бунте корни антимонархических настроений русского народа, полагают, что восстание возглавила так называемая «Добрая партия» — совет, в который входили квартирмейстер 37-го флотского экипажа Тимофей Иванов, боцман 34-го флотского экипажа Фёдор Пискарёв, яличник Кондратий Шкуропелов, фельдфебель Пётр Щукин, слесарь Матвей Соловьёв и горожанин Яков Попков. Этот список кочует из исследования в исследование, однако обнаружить достоверное доказательство того, что «Добрая партия» в самом деле существовала, нам не удалось.
Как бы то ни было, 3 июня Корабельную слободку окружили два батальона пехоты. Горожане в это время взломали избу, в которой хранилось конфискованное у них прежде оружие. Столыпин приказал им разоружиться и выдать зачинщиков. Жители слободки ответили, что зачинщиков среди них нет и что при продлении карантина их ждёт неминуемая смерть от голода, поэтому они не боятся смерти от рук солдат. Вечером в Адмиралтейской слободке ударили в набат. Люди собрались возле Адмиралтейского собора и направились к дому губернатора Столыпина, легко преодолели охрану и убили самого Столыпина, карантинного инспектора Степана Стулли и бригадного командира Степана Воробьёва. Разграбили дома ещё нескольких десятков чиновников.
К десяти вечера повстанцы захватили город. Полиция бежала, а гарнизон Севастополя (860 человек при трёх пушках) отказался подавлять восстание. Многие офицеры сочувствовали восставшим.
4 июня повстанцы заставили коменданта города Турчанинова, контр-адмирала Скаловского, руководившего карантинным оцеплением после Херхеулидзева, и городского голову Василия Носова выдать расписку в том, что чумы в городе нет, внутренняя карантинная линия в городе снята, «жители имеют беспрепятственное сообщение между собой, в церквах богослужение дозволяется производить, и цепь вокруг города от нынешнего учреждения перенесена далее на две версты». А затем… «бунт прекратился сам собой». Горожане, удовлетворённые, разошлись по домам.
А 5 июня в город вступили войска.
Казнь
11 июня адмирал Грейг, формально всё ещё являвшийся военным губернатором Севастополя, обратился к народу, призывая зачинщиков восстания явиться к нему с покаянием. Он обещал заступиться за горожан перед императором и собирался помиловать всех, «кроме зачинщиков и убийц». Но сторонники Воронцова — а у него были очень влиятельные друзья, например Арсений Закревский, министр внутренних дел, и Бенкендорф — послали Николаю I несколько доносов на Грейга, и император передал Воронцову неограниченные полномочия.
Оба губернатора — и Грейг, и Воронцов — создают следственные комиссии, чтобы выяснить, что произошло с городом за последние несколько лет. 11 июня была создана первая комиссия по приказу Грейга, её возглавил капитан первого ранга Николай Патаниоти. Туда поступило множество жалоб: на плохое обеспечение пайками во время карантина, на насильное купание в зимнем море, на поведение мортусов, которые протащили через город в чумной барак умершую от родов вдову Христиану Тученкову, не заботясь о том, чтобы прикрыть её обнажившееся тело. 12 июня аналогичную комиссию создал Воронцов и сам же её возглавил, а в комиссию Грейга заслал Ликурга Качиони. Тот исправно отчитывался о работе комиссии Грейга, и через месяц Воронцов принял решение её закрыть, потому что она выявила немало нарушений со стороны подчинявшихся Воронцову чиновников.
Кажется, именно для того, чтобы дискредитировать и самого Грейга, и работавшую под его началом комиссию, Воронцов начал преувеличивать масштабы чумного бунта — ведь в бунте участвовали матросские жёны и сами матросы, подчинявшиеся Грейгу. Развернулось масштабное следствие. Перед судом предстало больше полутора тысяч человек: 497 гражданских лиц (причём 423 из них — жёны и вдовы матросов и мастеровых), 407 матросов, 470 корабельных мастеровых, 128 солдат, 46 младших офицеров. Грейг писал Николаю I и просил его помиловать офицеров, Воронцов же лично утвердил все приговоры. Он одобрил 626 смертных приговоров, впрочем, расстреляли только семь человек. Первые три казни состоялись 11 августа 1830 года. Выстрелы прозвучали одновременно в трёх концах города, на территории мятежных слободок.
Но расстрел был не единственным наказанием для участников бунта. Многих осуждённых за участие в нём прогнали сквозь строй. Всех офицеров, сочувствовавших восставшим, было постановлено изгнать из армии и исключить со службы. Около четырёх тысяч человек выселили из Севастополя и этапировали в другие города, в частности в Архангельск. Семьи при высылке разделяли: жёнам не позволялось следовать с мужьями, но каждой на дорогу было выделено 10 рублей. Слободки, по приказу императора, «уничтожили совершенно», а чинам морского ведомства запретили иметь в Севастополе собственные дома — «для истребления духа своеволия и непокорности». Оцепление Севастополя сняли в ноябре 1830 года. Холера продолжала буйствовать в Крыму ещё целый год.





