Новая глава дневника свидетеля Первой мировой, революции и других потрясений в жизни страны — Сигизмунда Дудкевича. Жизнь постепенно налаживается: в его семье появляется собственная лошадь, да ещё и красноармейцы дают отцу Сигизмунда в управление целый взвод пленных буржуев. Под руководством Дудкевича-старшего благородные дамы в шляпках и мужчины в прежде дорогих костюмах копают землю и носят тяжести. Но радость не длится долго: Сигизмунду приходится отправиться в детский дом.
(Стилистика автора сохранена)
Серия
«Красный дневник»
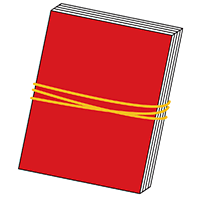
Хозяйничали несколько месяцев, а в начале 1920 года приехали трое в штатском, но с револьверами и карабинами, объявили, что часть скота заберут, а остальное разделят между рабочими совхоза. Хутор зажужжал, как растревоженный пчелиный улей. Это длилось несколько дней. Часть скота, свиней, овец угнали, зерно почти всё вывезли — оставили семенное. Все ждали списка раздела — наконец, его объявили. Нашей семье досталось следующее: дом, в котором мы жили, рядом стоящий сарай, повозка, плуг и, главное, земля — не помню сколько, но часть её уже была засеяна под зиму. А к нашей с Демьяном радости — ещё красивая, породистая жеребная кобылица: необъезженная, прямо из табуна.
Отец занялся её приручением — и через месяц она уже разрешала себя погладить: вначале только отцу, а потом привыкла и к нам с Демьяном, потому что мы подолгу около неё сидели и кормили её хлебом. Нам казалось, что жизнь наша теперь будет лучше, так рассуждали не только мальчишки, но и взрослые, а отец наш был недоволен — скорее всего потому, что он никогда не имел частной собственности, а привык работать по найму. Семейные дела наши тоже были плохи: не только мы, дети, грызлись между собой, но часто ссорились отец с мачехой и Груни с нею же. Никто из нас не работал — сидели дома. Это ещё больше накаляло семейную атмосферу.
Весной 1920 года отец куда-то уехал, кормить кобылицу поручил нам с Демьяном. Надо было начинать полевые работы. Многие мужчины спрягались: у кого лошадь, у кого повозка — в общем, собирались выезжать в поле, только наш отец об этом не думал.
Через неделю он вернулся, и не один: вёл за собой красивого жеребца, сильно хромавшего на переднюю ногу. Отец был в хорошем настроении, он рассказал, что, когда шёл со станции домой, один красногвардеец продавал жеребца, а так как тот был ранен в ногу, то отец купил его очень дёшево. Но главное — отец сообщил нам, что мы отсюда уедем в совхоз № 10 Александровского района: он только организуется, и надо спешить. Коню перевязал ногу, откуда-то принёс овса, хорошего сена, а через несколько дней, вечером, когда вся семья была в сборе, дополнительно объявил нам, что завтра выезжаем, но только не все: Бронислава со своим потомством остаётся здесь. «Возьмём с собой бричку, жеребца, две кровати, две табуретки, свою одежду и половину продуктов, а всё остальное остаётся вам», — сказал он мачехе. Та заплакала, дети её насупились, а мы все были в восторге.
На второй день отец привёл двух мужчин, написал раздельный акт. Мы погрузили всё своё на повозку — и тронули. До совхоза ехали целых три дня — через село Соваровское, станицу Болтопашинскую (сейчас город Черкеск). Отец с Грунькой почти не садились на бричку, а мы с Демьяном половину шли — половину ехали, сидела на повозке только Клара, потому что жеребец сильно хромал. Мы часто его пасли и подкармливали овсом. Две ночи спали в пути: дети прямо на повозке, а отец с Груней под повозкой, но зато настроение у нас всех, в том числе и у отца, было великолепное.
Совхоз №10
Помещик Курдубанов имел три хутора, расположенных по балке на расстоянии друг от друга километра три. В каждом хуторе были в центре господские дома — большие, многокомнатные. Совхоз № 10 занимал все три хутора. Отцу дали место в центральном хуторе — самом большом. Здесь был большой пруд, водяная мельница, сад, огород, скотные дворы, конюшня. Жилых домов насчитывалось не меньше двадцати. В них размещались по две-три семьи. Сад начинался прямо у хутора, одной стороной он прилегал к пруду, с другой проходила дорога, а в конце его был небольшой лесок. На границе сада с леском стоял дом — специально для садовника, туда нас и поместили. Дом состоял из кухни, спальни, кладовки и сеней. Местность всем очень понравилась, особенно нам, детворе: в пруду много рыбы, а в лесу — грачиных гнёзд, на каждом дереве — по нескольку штук. Есть где разгуляться!
Сад был запущенный: зарос бурьяном, ветки несколько лет не обрезались, но зато в нём были деревья самых разных сортов. Богатый сад! Отец с места в карьер взялся за работу: привёз садовый инвентарь, дали ему людей, но он жаловался, что мало. Груня пока занялась организацией наших домашних дел, некоторые продукты ей выписали со склада в счёт зарплаты отца. Вначале кушали мы на табуретке, а сидели прямо на полу. Через некоторое время откуда-то принесли стол, лавку и кое-какую посуду, так что дней через десять наш быт стал немного организованнее. Груня начала работать в саду.
В конце мая в совхоз привезли человек триста мобилизованных буржуев — их так и называли. Отец дома хвалился, что ему дают сто буржуев. Привёл их отец в сад, а мы с Демьяном и Кларой побежали смотреть, что за люди. Большинство из них составляли женщины средних лет, а кроме них — по нескольку пожилых мужчин и молодых девушек. Одеты все они были по-буржуйски: девушки — в туфельках на высоких каблуках, в шляпках... В общем, одежда на них была, по нашему заключению, шикарная. Раздал отец им лопаты и заставил копать сад. Помощник отца и ещё две женщины из рабочих стали их учить, как копать, но толку было мало: они не умели и не хотели заниматься физическим трудом. Скоро у них появились кровяные мозоли на руках, и нужно было подыскивать им другую работу.
Заставили их таскать и складывать ветки после обрезки деревьев, носить навоз для парников, выполнять разную другую работу. Кормили их на общей кухне плохо: гороховый суп или борщ без мяса. Через некоторое время на них стало жалко смотреть: похудели, почернели... Но отец им повторял всё время: учитесь работать, теперь без работы вам жить нельзя, а руководить мы сами умеем. Я вспомнил, как отец и мы целовали руки барыне и кланялись до земли барину. Как-то чудно было, и поэтому мы с Демьяном ходили смотреть на них, а с барышень смеялись. «Что, плохо работать? — говорили мы им. — Больше барствовать не будете!». Но когда увидели у одной слёзы на глазах, нам стало жалко их, и мы перестали их дразнить. Однажды трём самым младшим принесли по кусочку хлеба, который они тут же съели. Мы сами вволю хлеба не ели, но всё-таки для барышень сэкономили.
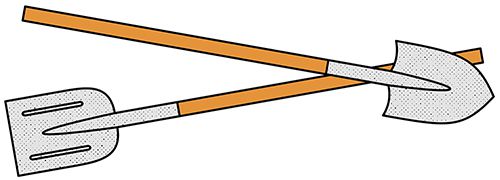
Любимым занятием у нас с Демьяном было ловить рыбу удочками и выдирать грачиные яйца. Мы их варили и вместе с Кларой ели, взяв с неё слово, что она отцу, который ругал нас за это, не скажет. Так мы прожили два месяца, оборвались, в особенности мы с Демьяном, и однажды вечером отец говорит, что на третьем хуторе (наш был первый) организуют детский дом: может, нас записать туда? Нужно отметить, что отец изо всех сил старался, чтобы мы жили хорошо: очень редко ругал, совсем не бил, кушать мы стали неплохо, но одеваться было не на что: мануфактура дорогая, да её и не достать. Учитывая такое положение, мы с Демьяном дали согласие пойти в детдом.
Детский дом размещался в бывших господских хоромах. Количество детей было пятьдесят-шестьдесят человек в возрасте от восьми до пятнадцати лет, в основном мальчики. Обслуживающий персонал состоял из трёх молодых женщин и заведующей — молодой барышни Веры Владимировны, которую за глаза мы звали просто Веркой. Я говорю «барышня», потому что она была очень молода — двадцати двух лет и к тому же поповой дочкой.
В основном мы обслуживали себя сами: работали на кухне, мыли полы, делали уборку всех комнат и на дворе. Каждый из нас имел деревянную винтовку, сделанную как настоящая. При царе существовали детские организации бойскаутов, их обучали военному делу — вот их винтовки и достались нам. Нас никто не учил, как с ними обращаться, но в драках мы ими пользовались.
Помню, как-то Демьян подрался с одним мальчишкой — Коробовым. Тот был гораздо больше Демьяна, но не имел правой руки по локоть. Коробов взял винтовку за дуло и давай лупцевать Демьяна. Я вижу — шутка дурная, он может сильно избить брата, и стал их разнимать. Коробов ударил меня, тогда я со всей силы залепил ему по носу, он схватился за нос, из которого пошла кровь. Я его ещё раз ударил — в грудь, он упал на пол и полез под кровать. Так и лежал там до обеда. Когда прозвенел звонок — петь «Интернационал» перед обедом, — Коробов вылез из-под кровати. Во время пения Верка увидела, что у него лицо и рубаха в крови. Потом стала допрашивать его, с кем он дрался, но Коробов упрямо говорил, что упал, ударился о кровать и разбил себе нос. Она не поверила — и оставила его без обеда. Мы всё-таки с Демьяном украли со стола две порции второго, хлеба — и отнесли Коробову в спальню. С тех пор Коробов боялся меня, а то он многих мальчишек бил, пользуясь своей ловкостью и силой.
Насчет пения «Интернационала» необходимо отметить, что Верка довела нас до того, что мы стали его ненавидеть. Представьте себе, мы его пели восемь раз в день: после утреннего туалета, перед завтраком, после завтрака, перед обедом, после обеда, перед ужином, после ужина и перед сном. Не явился на пение «Интернационала» — не даёт кушать, а во время пения наблюдает за всеми: если кто не поёт, тоже оставляет без еды.
Вообще Верка издевалась над детьми, за малейшее непослушание или невыполнение распорядка дня наказывала: ставила на колени, запрещала выходить гулять и даже организовала карцер — на несколько часов закрывала в уборной.
Были у нас двое пятнадцатилетних — Синицин и Кузнецов, и их должны были скоро определять на работу. Вот они и решили отомстить Верке: как они говорили, сделать ей тёмную. Подобрали ещё троих надёжных ребят, в том числе был и я, нарéзали розог, подкараулили её вечером в тёмном коридоре (предварительно погасили все лампы), когда она шла в уборную, Синицин и Кузнецов схватили её за руки, а мы втроём, каждый по два раза, огрели её по спине. Она подняла крик, все забегали, выскочили дети, но темно — ничего не видать, поди разберись, кто бил. Верка сразу же убежала и закрылась в своей комнате. На второй день перед завтраком, после пения «Интернационала», Верка даёт команду всем стоять на месте и объявляет, что если мы не скажем, кто вчера её бил, кроме Кузнецова, то завтрак не получим.
Кузнецова она угадала по голосу — он, когда мы её били, приговаривал: «Сильней, сильней!». Все молчат. Тогда Верка села, а мы стоим, и минут через двадцать опять спрашивает. Тогда Синицын сказал:
— Я!
— А ещё кто? — спрашивает Верка
— Никто, нас было двое, — ответил Синицин.
— Врёшь! — закричала Верка.
— Сама ты врёшь, сука.
Верка выбежала из столовой. Мы все сели за стол, посидели немного, а потом стали дружно стучать ложками по столу. Заходит кухарка и объявляет, что Верка приказала Кузнецову и Синицину не давать завтрак, а остальных накормить. Как раз была моя очередь дежурить в кухне, и когда стали разносить завтрак, я всё-таки выпросил у кухарки две порции для Кузнецова и Синицина, с условием, чтобы Верка не знала.
После завтрака я помог Кузнецову и Синицину украсть две буханки хлеба, бутылку постного масла, несколько головок лука — и они ушли из детского дома в совхоз наниматься на работу. Перед уходом подбросили Верке записку: «Если ты, сука, будешь продолжать издеваться над детьми, мы ночью проведаем тебя — тогда пощады не проси». Верка учла эту угрозу, и порядки стали у нас совсем другие. Во время пения «Интернационала» Верка перестала присутствовать, возложила эти обязанности на дежурных — а это значит, что некоторые могли стоять и не петь, даже иногда можно было пропускать эту процедуру, свободно стали ходить на пруд купаться, рвать цветы в поле. Наказывать стала редко, а карцер совсем отменила.
Приехал наш отец навестить нас, привёз гостинцев, а главное — сообщил нам, что наш детдом хотят расформировать, и он просил, чтобы нас с Демьяном перевели в село Александровское. Верка это, наверное, знала давно, но ничего не говорила.
Так и случилось в сентябре 1920 года: наш детский дом расформировали — и мы с Демьяном попали в Александровский, в котором находилось больше сотни детей.
Порядки были здесь совсем иные: «Интернационал» не пели, полы не мыли, были на полном обеспечении, а самое главное — всех ребят школьного возраста послали учиться в гимназию, которая находилась через дорогу от детдома. Не помню, в какой класс определили нас с Демьяном, только мне там делать нечего было, так как учиться начинали с азов, но, несмотря на это, я прилежно выполнял все задания, и всегда учитель ставил меня в пример другим.

Посещение гимназии нас дисциплинировало, и поэтому жизнь наша протекала почти нормально. Я пишу «почти», потому что кормили нас плоховато, одевали ещё хуже. В особенности мне было плохо: я относительно других ростом был большой, а одежда и обувь были на меня малы. О нашем воспитании мало беспокоились, больше занимались дошкольниками, а мы были предоставлены самим себе. Так и прошла зима 1920–1921 года.
При детдоме не было своего подсобного хозяйства, и мы от безделья, а также и от недоедания стали лазить по чужим садам и огородам. Рядом с нашим домом был базар. В базарные дни многие ребята там промышляли, в особенности воровали фрукты, но иногда хлеб и хлебные изделия. Этим делом занимался и Демьян, как-то он даже кусок сала принёс, а у меня не хватало для этого нахальства. В воровстве гусей и уток я принимал участие. Делали мы это так: на конец длинной палки привязывали петлю из тонкой мягкой проволоки, в конце села росли кусты около дороги, мы садились в кусты или в канаву, палку с петлёй клали на дорогу, второй её конец был у нас в руках. Когда гуси или утки шли по дороге, мы палку поднимали, накидывали петлю на шею своей жертве и тащили в кусты. Затем отрезáли голову, закапывали птицу неглубоко в землю, сверху разводили костёр, проходило часа два — сдвигали его, вынимали птицу из земли: она оказывалась пареной, перья отпадали, выбросив кишки, мы делили её между собой и съедали.
1921 год был неурожайный, и уже к осени с продуктами стало трудно. В то время каждая область, каждый район питались только своими продуктами, и поэтому начался голод по всей Ставропольской области. Голод был и в других областях.
В нашем детдоме уменьшили порции питания, и мы были всё время голодные.
Воровство увеличилось, жители приходили и жаловались нашему директору, что детдомовцы украли то кур, то картошку, то в подвал залезли, но что мог сделать директор? Он соберёт нас, постыдит — и на этом всё кончается.
Однажды утром мы недосчитались одного товарища, Николая. Пропал он с вечера, но мы уверены были, что утром придёт: он частенько промышлял. Сели завтракать, а его всё нет и нет. Дети часто убегали из детдома насовсем, но они брали с собой всю одежду, даже чужую прихватывали, а у этого всё дома, значит, что-то с ним случилось.
После завтрака несколько человек из наших пошли его искать. Нашли товарища в канаве за огородами, он был еле живой, ноги и одна рука перебиты, голова разбита. Мы все заплакали, а он только глазами моргал — ничего говорить не мог. Положили его на пиджак и понесли домой. Дорогой спрашивали, кто его побил, он с усилием поднял одну руку и показал на дом, где жил спекулянт Лавров, а затем еле выговорил: «В подвале». Принесли мы Николая в детдом, директор побежал искать лошадь, чтобы отвезти его в больницу, пока нашёл — Николай умер. Пришли два милиционера, мы им рассказали, что Николай показывал на дом Лаврова.
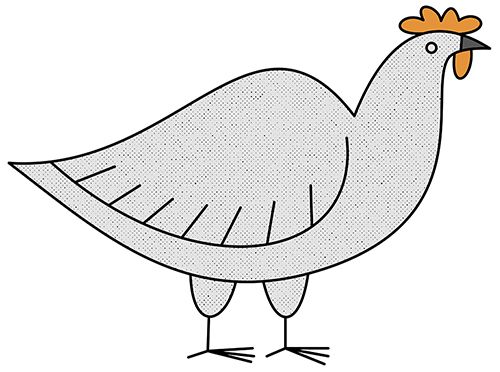
На другой день мы хоронили Николая, жалко было, многие плакали. Милиция ходила до Лаврова, потом нас ещё допрашивали, но дело осталось без последствий. Я и ещё трое здоровых ребят решили отомстить за Николая. Нам соседи Лаврова по секрету сказали, что слышали крик в его подвале поздно вечером. Сомнений не было, что Лавров поймал Николая в подвале, до полусмерти избил его, отнёс в огород и бросил в канаву. Все четверо пошли мы на могилу Николая и там ему поклялись отомстить Лаврову за убийство. Там же договорились Лаврова зарезать или сжечь всю его семью вместе с ним. У Лаврова были жена и дочь лет двадцати, которая помогала ему торговать рыбой, мясом и другими продуктами. Заготовили ножи, понемногу наворовали литров шесть керосина. С вечера мы все четверо залезли в окно нашей кухни, нашли спички, в корыте нащупали муку — и не выдержали: замесили несколько лепёшек, разожгли духовку и положили их туда. Но пышки наши никак не пеклись, мы их съели полусырыми. Вылезли, окно опять закрыли и пошли к дому Лаврова. Мы хотели дождаться, когда он выйдет на двор, и зарезать его, а потом поджечь дом.
Просидели за сараем часа два, а то и все три, а Лавров не выходил. Холод заставил нас действовать. Полили крыши дома и сарая керосином (они были соломенные), двое сарай подожгли, а двое хату. Потом побежали домой, глянули в окно — огонь разгорается. Быстро разделись, и тогда я разбудил парня с соседней кровати, говорю: «Смотри — пожар!». Все повскакивали, смотрим в окно, а дом и сарай пылают. Кто-то с улицы подбежал к окну Лаврова и разбудил их. Все Лавровы повыпрыгивали из окон, кругом бегают, кричат, ничего не могут сделать. Народ стал сбегаться, но тушить нечем. Лавров, наверное, вспомнил, что надо хоть свою кассу спасти, прыгнул в окно, но, видимо, в доме всё уже горело — он долго не появлялся. В это время подъехали пожарники на лошадях с бочками, один из них прыгнул в окно и вытащил оттуда Лаврова. Стали в окна качать воду от ручного насоса. В общем, к утру стояли только стены. Лавров с семьёй остались в чём выскочили. Лавров долго ходил с завязанной головой, говорили, что обжёг. Мы были довольны, дали слово друг другу, что никогда и никому ни под какими пытками не сознаемся, что это мы сожгли усадьбу Лаврова.
Через некоторое время милиция нас побеспокоила. Начали с того, кто первый увидал пожар: с меня. Я рассказал, что ночью проснулся, глянул на двор, увидел огонь и сразу разбудил Фёдора, своего соседа. Фёдор мои слова подтвердил. И все дети заявили, что, когда начался пожар, все были дома. И действительно почти так и было: когда дом горел, все наши были в своих кроватях. Лавров настаивал, что поджог совершили детдомовцы, а тут ещё он нашел банку из-под керосина около своего дома.
Милиция опять начала допросы, и все с меня начинают. Потом допрашивали товарища по несчастью — у него в руках кто-то видел эту банку из-под керосина, он сказал, что банка валялась на дворе, он подержал её в руках и закинул за уборную.



