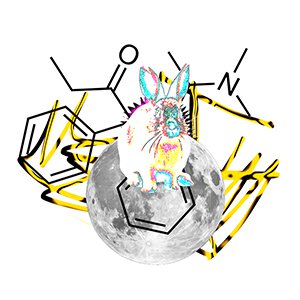Третья глава исследования героина в России посвящена тому, как наркотики существовали в богемной и околокультурной среде. Открывающий текст для неё мы попросили написать журналиста Анну Наринскую, которая в молодости вблизи наблюдала, как «винт» и «джеф» выкашивали поэтов, хиппи и музыкантов, и сама участвовала не в одном сейшене, чтобы прийти к выводу, что ненависть к наркомании и наркотикам прячет совсем не те эмоции и человеческие качества, как обычно кажется.
Около трёх лет назад погиб друг моего сына. Ему не было и пятнадцати. То ли от овердозы, то ли от того, что под видом некого «конвенционального», скажем так, вещества ему доставили какую-то отраву. Это нашумевшая история, волнами ходившая по соцсетям и задевшая многих: он был невероятно ярким, заинтересовывающим, дружил с кучей народу — и с ровесниками, и со старшими, и то, что с ним случилось, ударило огромное количество людей.
Это событие и даже конкретно тот час, который я провела на отпевании в под завязку набитой подростками церкви, изменили во мне многое. Теперь мои прогрессивные друзья даже пеняют мне наркофобией (не путать с наркоманофобией) и удивляются, как я изменилась. Я, наверное, действительно изменилась, но это не значит, что я как-то по этому поводу сама с собой твёрдо договорилась.
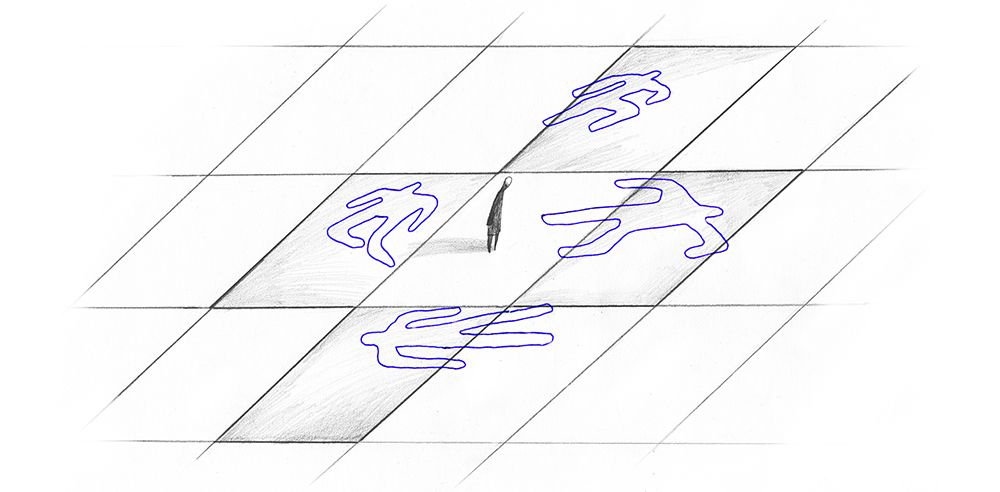
Общеизвестно, что по-настоящему работает только целостная позиция. Позиция «да» или позиция «нет». Особенно это очевидно в политике. Не так давно в Америке в разговоре с известным политологом и вообще всемирно умным человеком я сказала, что Трамп — это, конечно, ужас-ужас, но все эти заявления, что его выбрали русские хакеры, просто смехотворны. Мой собеседник мгновенно посерьёзнел и сказал назидательно: «Антитрамповский дискурс должен быть воспринят полностью, без изъятий, иначе он не эффективен». Вот это по-настоящему практический подход: назначить что-то беспримесным злом и бороться с этим, не принимая во внимание слабости некоторых деталей и аргументов. Колебания — все эти «с одной стороны», «с другой стороны» и «нельзя не признать» — делают нашу позицию шаткой и какой-то неокончательной. Всё, что находится между «Наркотики это зло, их надо искоренять любыми методами, от них надо отучать любыми методами» и «Моё тело — моё дело» (и, соответственно, «их тело — их дело»), ощущается каким-то спорным, не до конца продуманным. Вот в этом не до конца продуманном месте я и нахожусь.
Первое моё столкновение с «веществами» произошло довольно рано и было поверхностно и мимолётно. Я училась в очень простецкой — то есть без всяких там уклонов и углубленных изучений языков — школе, и многие мальчики (да, это увлечение было, выражаясь современным жаргоном, гендерно однородно) нюхали клей. Ни сам процесс (на рубеже семидесятых-восьмидесятых найти налезающий тебе на голову полиэтиленовый пакет было непросто, так что приходилось изловчаться), ни его последствия, ни его приверженцы не привлекали меня совершенно, и всё это занятие как-то оставалось на периферии моего сознания. И, скорее, сейчас я задним числом понимаю, что делали «за гаражами» (а на самом деле за помойными контейнерами) группы мальчишек, накрывшиеся толстой розовой клеёнкой, явно украденной с пеленального стола младшей сестры или брата. Их было приятно обходить стороной, ничего про них не знать. Я так и делала. Мои знания такого рода расширились только с поступлением в университет.
«Я объявил войну винту. Как и многие. Мы воюем с ним так же, как алкоголики со своей вонючей водярой, — путём уничтожения посредством собственного организма». Я совсем недавно узнала, что винт, о котором здесь пишет Кирилл Воробьёв, подписавшись Баяном Ширяновым, чем-то отличается от джефа, употреблением которого было принято козырять среди моих студенческих друзей в середине восьмидесятых. Я недавно даже почитала какие-то источники в интернете, узнала, что джеф ещё даже гораздо хуже винта и от него прямо-таки неминуемо наступает слабоумие. Не знаю, не замечала.
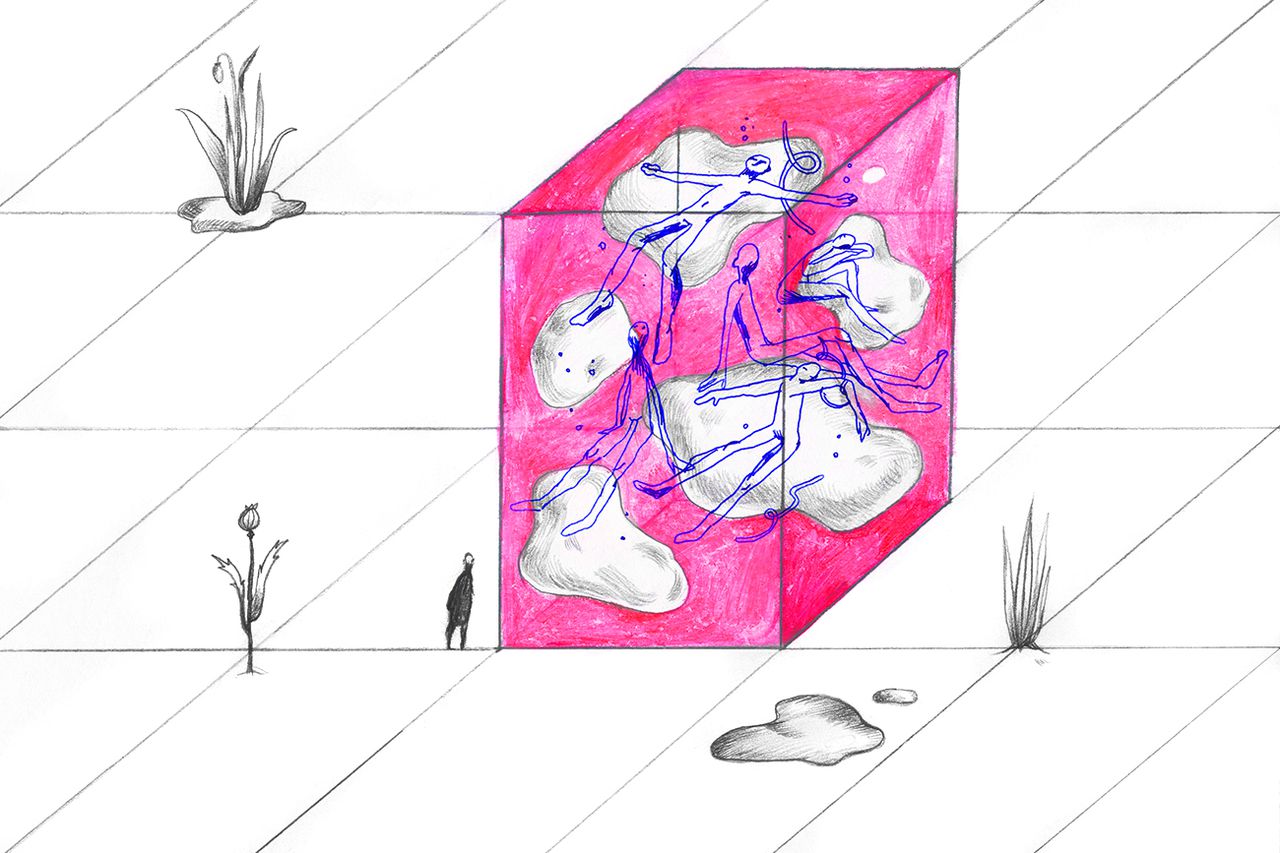
Сырьё, то бишь эфедрин, продавалось без рецепта, его капали в нос младенцам, подхватившим насморк. Для тех, кто боялся иглы, хоть они и считались слабаками, были разработаны другие методы применения, требовавшие куда большего расхода продукта, но его никто особенно и не экономил. И ещё что важно: цитируя того же автора, надо сказать, что вторым элементом кайфа, кроме собственно вещества, был флэт. И любители джефа всегда каким-то образом умудрялись такого обладателя жилплощади найти и приручить. В то время всеобщего проживания с родителями вплоть до замужества/женитьбы просто неконтролированные собрания в отдельной квартире казались чем-то невероятно желанным. Изменение сознания мне казалось скорее бонусом, прибавкой к этой отдельной крутой жизни на флэтах, куда меня то брали, то не брали. Чаще — не брали.
Одно из самых ярких воспоминаний того времени — про девушку-хиппи со старшего курса, в которую я была немного влюблена, а она не обращала на меня никакого внимания. Проявив несвойственную мне хитрость и изворотливость, я присоседилась к полузнакомому парню, который шёл к ней, «чтоб кое-что занести». Это была коммуналка где-то в Обыденских переулках. Дверь в квартиру нам открыл вполне мирный сосед в грязноватой майке-алкоголичке и махнул рукой в сторону дальней по коридору комнаты. Внутри буквально повсюду — на диване, на полу, на широком подоконнике — лежали люди. Не то чтобы как-то неопрятно вповалку, а очень даже живописно и кинематографично лежали. И никто даже не повернул голову в нашу сторону. А над всем этим висела музыка, которая меня тогда совершенно поразила (потом я поняла, что это был проигрыш из песни «Пинк Флойд» — «Hey You», вырезанный и поставленный на бесконечный повтор).
Это до сих пор одно из моих самых ярких жизненных воспоминаний. Так называемые «знающие» люди, конечно, на этом месте сразу скажут, что к джефу эта картинка никакого отношения не имеет, что приход от него другой итэдэ, а тут, вероятно, были вещи посильнее, но дело не в этом. Не в этом — а в том, что это долгое время был для меня образ прекрасного мира, куда меня не пускали и куда поэтому надо было попасть.
До конца я туда так и не протырилась. Никогда не была «своей», отвлекалась на постороннее. Скорее, это были отдельные дружбы и отдельные эксперименты. А когда я, проделав сразу по окончании университета несколькогодичный тур по недавно открывшимся заграницам, вернулась в Москву, та компания развалилась и самые яркие люди из неё стали умирать. Тот, кто нравился мне когда-то больше всех, выпрыгнул под влиянием препарата с третьего, что ли, этажа и ещё несколько минут бежал на раздробленных ногах, не понимая, что с ним происходит. Тогда у меня не было сомнений, что это его полное право — выбрать такое. То есть выбрать жизнь, которая приведёт к такому. Сейчас я не знаю.
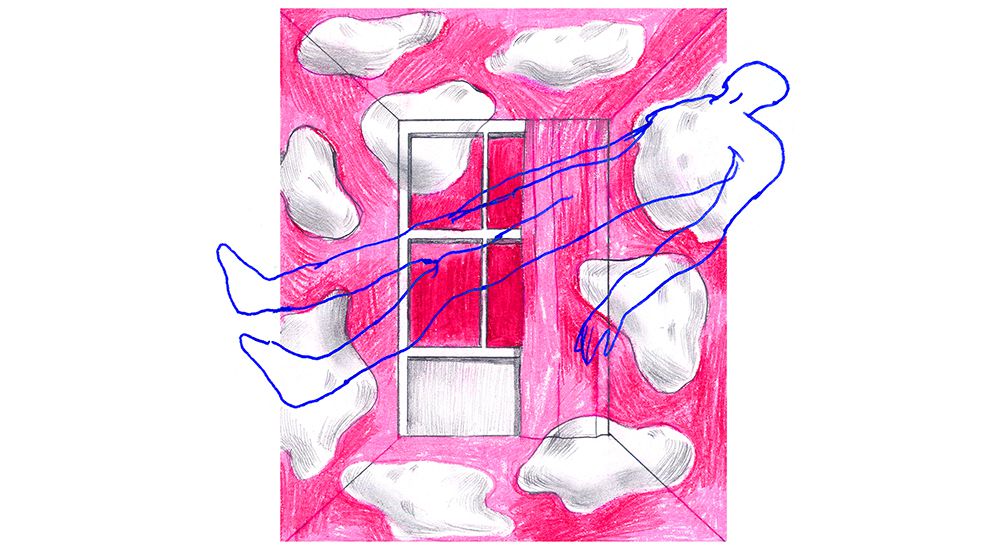
В бумажном издании ширяновского «Низшего пилотажа», которое вышло в издательстве Ad Marginem в 2001 году, к тексту, уже несколько лет к тому времени висевшему в сети, прибавилась глава «Улица мёртвых наркоманов». Многие считали, что она появилась под давлением издательства, чтобы хоть как-то повернуть текст от «описания кайфа» в сторону «предупреждения об опасности». В это трудно поверить — настолько это лиричный, прочувствованный прогон: «Я пока ещё живой. Мне покуда повезло больше всех. Но надолго ли такое везение? И я ещё не знаю того, что через несколько дней я, слегка абстяжный, буду перебегать дорогу, чтоб успеть на троллейбус, и попаду под белую „семёрку“. И займу своё, много лет назад зарезервированное место на Улице Мёртвых Наркоманов». (Кирилл Воробьёв умер почти двадцать лет спустя от цирроза печени.)
Книга моего младшего брата Миши Наймана «Осень of Love» тоже кончается эпилогом, который вполне можно назвать «Улица Мёртвых Наркоманов». Все герои книжки — очень молодые — умирают или хуже чем умирают.
Миша жил в Англии, не читал Ширянова, хотя, конечно, читал Ирвина Уэлша и смотрел Trainspotting, но его книжка не похожа ни на то, ни на другое. В 1993-м, окончив британскую школу, он получил стипендию от Сассекского университета, расположенного в городе Брайтоне, специфическая тогдашняя слава которого не была известна ни моим родителям, ни мне, — вот такие мы были тёмные.
Его книжка — про увядание британской acid revolution, в жерло которой он умудрился ввинтиться, про пересадку её героев с экстази на героин и про приключения по дороге. Сам он слез с наркотиков после нервного срыва, после психиатрической клиники на Западе, а потом в России, куда он вернулся (я пишу об этом свободно, потому что он сам описал это в романе «Плохо быть мной», который вышел после его смерти и более известен, чем та, первая, книжка, хотя она тоже очень хорошая). Он почти пятнадцать лет не прикасался ни к каким веществам и практически не пил алкоголь. Потом он заболел лимфомой — и она убила его за полгода. Один из московских врачей, с которым я обсуждала этот диагноз, сказал мне: «Ну что вы хотите, он же употреблял наркотики». Врач вот это вот «сам-виноват» сказал. Я этого никогда не забуду.
Я вспоминала этот разговор с врачом, когда погиб пятнадцатилетний друг моего сына. Утверждение «наркотики — зло» и особенно «тяжёлые наркотики — зло» — банальность, которая ничего не меняет. Это правда, которую те, кто хотят её игнорировать, — игнорируют. То, что ненавистью к наркотикам мы часто оправдываем собственное безразличие, жестокость, зашоренность и нежелание «ввязываться», — это тоже правда, осознание которой могло бы принести много пользы. Если б оно произошло, это осознание.