Аббревиатуру ЛГБТ завезли к нам в конце 90-х. На Западе она появилась раньше, ещё в 70-е, но в России сексуальные меньшинства ещё долго (да и сейчас) по привычке называли «пидарасами» и «лесбухами».
В цикле рассказов «Русская готика» писатель Михаил Боков исследует провинциальную жизнь российской глубинки начала 90-х. В этом выпуске — рассказ о том, как ЛГБТ-движение проникло в обычный пионерский лагерь: как дерзкая девочка из интерната влюбилась в записную лагерную красавицу и как ей пришлось защищать свою любовь в кровопролитных драках против деревенских парней.
Отчим мой привозил дискотеки в пионерские лагеря и носил усы. Усы были зверские, как у итальянца. На дискотеки в лагерь подтягивались местные. Они были одеты странно, по деревенской моде: к брюкам снизу пришивали алюминиевые колокольчики. При ходьбе колокольчики звенели. Когда шла толпа, казалось, что звенит весь мир.
Местные любили устроить замес. Чуть что — доставали ножи, резали вожатых. В нашу смену в лагере стоял милицейский УАЗ — для контроля. В другую смену решили вовсе не проводить дискотек. Но что за лагерь без дискотеки? Танцы вскоре вернули, а вместе с ними вернулись и местные.
В то лето заправлял местными тощий и злой Ванька Штырь. В отличие от другой шпаны, Штырь славился благородством. Местные и сами поняли, что с ножами не видать им лагерных городских дискотек. Но Ванька развил из этого этическую систему: кастеты тоже не брать, в беспредел не лезть. Если драка — то один на один. В былые дни местные любили прыгать толпой. Идёт вожатый с дискотеки, ведёт подведомственный пионерский отряд, а тут толпа — навалилась, исколбасила гогоча — хорошо, если не пырнут, — и умчалась обратно в лес. Пионеры кричат. Вожатый лежит, распластавшись в кровавый блин.

Штырь завёл дисциплину: прыжки толпой — только если несправедливость. Его поначалу не поняли: «Как так? Везде же несправедливость. Само слово „городской“ несправедливость». Штырь разъяснил: несправедливость — если обозвали пидарасом, если сказали про мамку и про отчий дом плохо. Назвали брезгливо «деревней» или «колхозом» — вали толпой. А если просто из-за бабы или стукнулись плечами на дискотеке — один на один. После разъяснений всем стало понятно.
Мы, молодые лагерные пионеры, узнали о кодексе деревенских от инсайдера — толстого Гришки Иванова. Гришка знал про всех всё. Гришке надо было выживать в пионерском коллективе: он ужом проникал в любую тайну. За новости, которые он приносил, ему прощали толстое пузо и не били.
«И короче, пацаны: теперь слова „деревня“ и „колхоз“ под запретом. Про пидарасов тоже лучше не стоит…» — завершил свой рассказ Гришка. И мы, пионерия тринадцати лет, сказали серьёзно, как мужчины из фильмов: «О-о-о». И закурили.
Замес того лета, когда деревенскими правил Ванька Штырь, случился из-за девочки Кристины Буринской. На Кристину плотоядно смотрел весь лагерь. Подозревали, что даже начальник лагеря, партийный сорокапятилетний мужчина, смотрит на Кристину с неуместным восторгом. Берёзы вокруг пионерских корпусов текли слезами: на стволах пионерия изливалась в любви к Кристине и перочинными ножичками рисовала сердца. Злые языки говорили, что Кристина ходит по ночам к вожатым. Толстый Гришка Иванов божился, что видел это сам.

Проблемой лагеря в то лето были не только местные и всеобщая любовь к Кристине. Из городского интерната приехала на третью смену Оксана Рябко, амазонка пятнадцати лет. Таких девочек мы ещё не видели. В интернате — а все мы были из школ, и само слово «интернатский» уже равнялось тяжкому преступлению — Оксана была одной большой головной болью. Она плевала в лицо учителям. Она носила пацанские штаны и стриглась под полубокс: сзади лысо, спереди чуб. Это был новый тип девочки, новый тип человека, это был ницшеанский Заратустра во плоти — и мы старались не связываться с Оксаной. Оксана была жёсткая как кремень.
Её приезд в лагерь начался со скандала. Ночью Оксана что-то такое сделала со своей соседкой по пионерской палате. Что именно — мы не знали. Толстый Гришка Иванов говорил всякое, но мы не верили: «Такого не может быть! Что сделала?! Заставила что?!» Вскоре Оксанку Рябко вывели на утренней пионерской линейке и поставили перед всем строем. «Если ещё раз! — орал с трибуны пунцовый начальник лагеря. — Если ещё хоть раз… Вон! Вылетишь вон отсюда!» Глаза Оксанки сверкали из-под чуба. Она стояла, руки в карманы: женщина-камень, женщина-огонь. Чуб был выкрашен пергидролью: неприлично желтел на пионерском плацу. В одном ухе серьга — звезда на цепочке.
Грядущий замес ощущался в само́й лагерной атмосфере. Как тучи собираются на периферии неба, как начинает покалывать от электричества воздух перед летней грозой, так и мы, пионеры, ноздрями чувствовали надрыв. Детские сердца ныли — страшно и томительно. Детские подмышки воняли подростковым потом больше обычного. Начальник лагеря сам стал нервный и строгий. Он буравил пионеров глазами, как сканером, в поисках червоточины: начальник тоже чувствовал неладное. Вожатые притихли. Даже на их ночных посиделках, где, по заявлению толстого Гришки, «творилось та-а-а-кое», теперь стало тихо.
Что-то должно было произойти.
Первый намёк на грядущую грозу случился на волейбольной площадке. Девочки отряда Оксанки Рябко играли против девочек из отряда Кристины Буринской. Это было общелагерное девчоночье первенство. Для игры пионерки облачались в волейбольные шортики и маечки, от которых у пионеров перехватывало дух. Когда в шортики облачалась Кристина Буринская, наиболее чувствительные пионеры от волнения ходили блевать в кусты.
Такую Кристину — летящую, воздушную, тонконогую — и увидела интернатская Оксана, и жестокое сердце её забилось часто-часто, как воробушек.
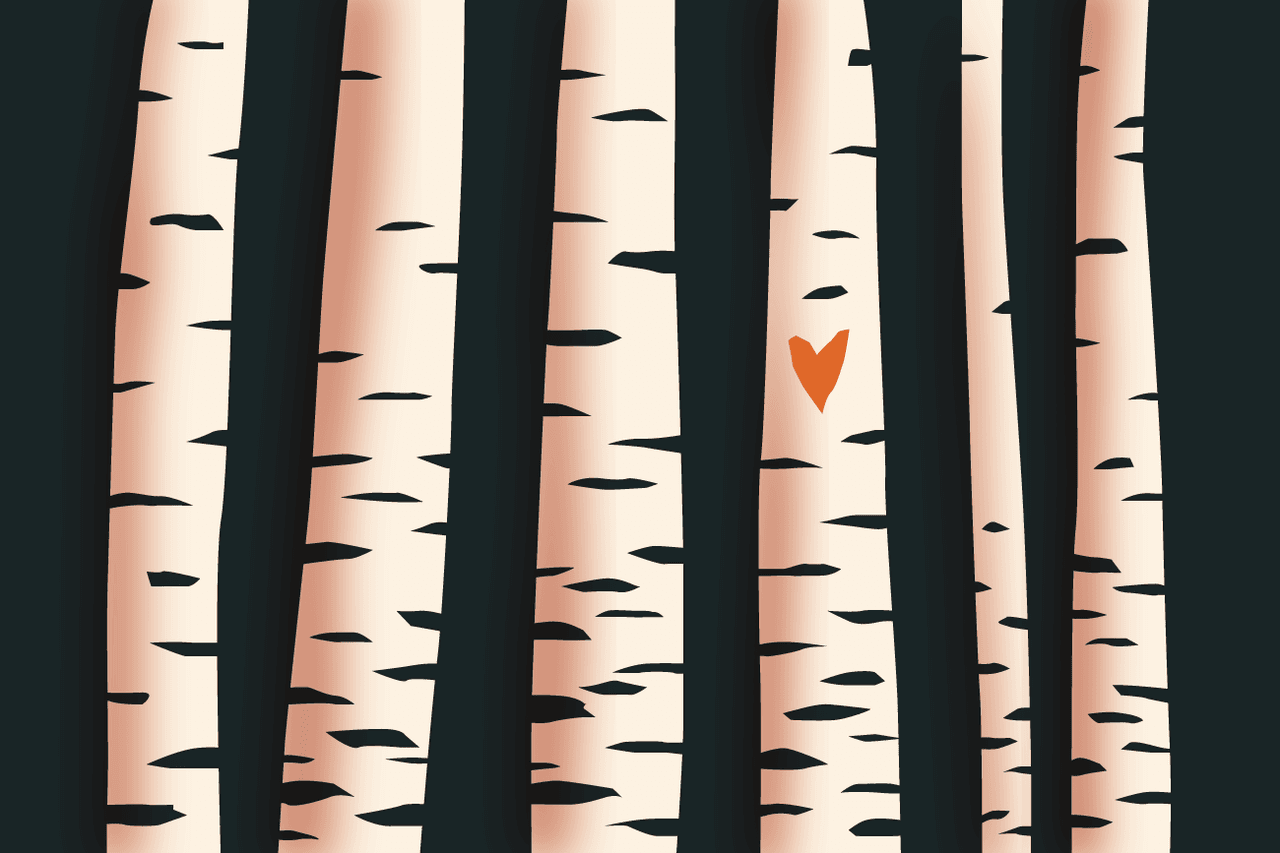
— Погоди-ка, погоди-ка. Это что у нас такое? — Оксана притянула за отворот футболки щуплую девочку из своей команды. Вместе с девочкой Оксана сидела на скамье запасных. Девочку не взяли в основной состав из-за её хилого роста. В свою очередь, Оксане играть в волейбол было западло.
— Рябко, хватит курить! — рявкнула на Оксану тренер по волейболу. — Сейчас удалю с площадки!
Оксана отмахнулась и притянула несчастную девочку ещё ближе:
— Что это за мимолётное виденье? — в порывах чувств Оксана могла говорить красиво.
Девочка пискнула:
— Что?
— Она! — указательный палец Оксаны упёрся в летящую, искрящуюся Кристину. Кристина играла неважно, но её всегда ставили в основу. Даже начальник лагеря приходил посмотреть на её игру.
— Это — Кристина Буринская. Первая лагерная красавица, в которую все влюблены! — отчеканила девочка и поспешила исчезнуть.
Растоптав окурок, Оксана выпустила дым и принялась ждать.
Игра закончилась. Раскрасневшаяся, прекрасная Кристина вытирала лицо полотенцем, когда сзади её окликнули.
— Поговорим? — попросила Оксана Рябко.
— Поговорим.
И две девочки отошли в сторонку поговорить.
О чём они там говорили, неизвестно, но только вскоре Оксана стала везде ходить с Кристиной. Оксана всегда носила штаны и никогда — юбки. Она шла по лагерю царём, шла троянским конём, шла победителем. Рука её обнимала Кристину Буринскую за шею. И Кристина — Кристина, по которой сохло пол-лагеря, по которой сох начальник лагеря, по которой сохли все мы, — шла рядом безропотно. И вроде бы — мы не могли в это поверить, но вроде бы — Кристина Буринская казалась счастливой, когда Оксанкина рука лежала на ней.
Начальник лагеря, увидев их, выронил сигарету.
— Это… — он запнулся, казалось, его хватит удар. — Это что???
— Остыньте, Пал Иваныч, — цыкнула ему через губу Оксанка. — Мы дружим.
Пал Иваныч не нашёлся что ответить. Он молча стоял с открытым ртом, пока парочка удалялась.
Толстый Гришка Иванов, который знал всё, говорил: по ночам Оксанка Рябко сбегает из своего отряда, чтобы проникнуть к Кристине Буринской, и остаётся там до утра. Вожатый хотел помешать Оксане, но она приставила нож к его горлу и пообещала расправу, если тот пикнет. Вожатый прикинул, что осталось всего две недели до конца смены. Он решил помалкивать. Портал в спальню Кристины Буринской был открыт.
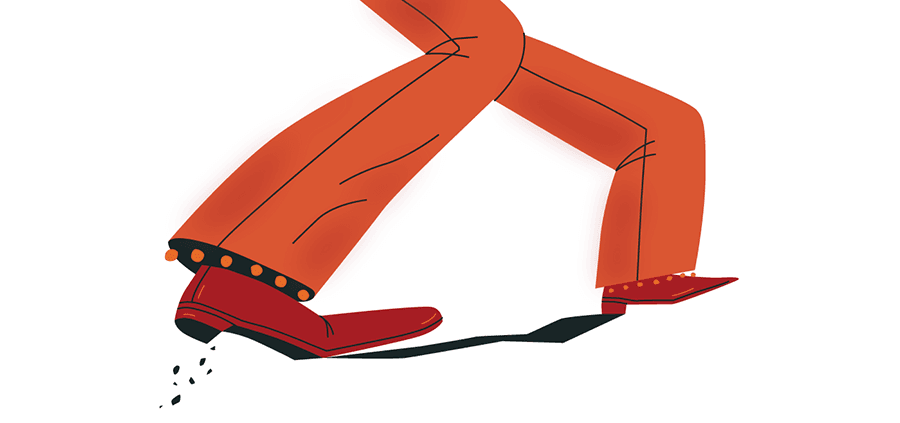
Мы слушали Гришку и не верили. А потом видели днём Оксану с Кристиной, гуляющих в обнимку, и верили. Мы подначивали друг друга: «Слабо тебе отбить Кристинку у Оксанки?» И гоготали, смущаясь, — потому что слабо было всем. Из всех мальчиков в лагере самые большие яйца носила интернатовская Оксана.
Потом случилась та памятная дискотека. Её вёл мой отчим. Он ставил Аль Бано — мой отчим был немного итальянец. Так говорил он сам.
По звону колокольчиков, пришитых к джинсам, мы поняли, что на дискотеку проникли местные. Деревенские работали грубо: если им нравилась девчонка, они просто распихивали нас, пионеров, и тащили её танцевать. Вот и сейчас — лидер местных Ванька Штырь определил Кристину Буринскую как самую красивую девочку на дискотеке и стал протискиваться сквозь толпу.
— Пойдём, сладкая, — сказал он и дёрнул Кристину за руку.
Мы поняли: то, что давно надвигалось, сейчас вскроется, как нарыв. Музыка стала глуше. Ночь темнее. Оксанка Рябко выпрыгнула из темноты, как пантера Багира, — и без слов зарядила Ваньке Штырю кулаком в зубы. Ванька покатился по земле: вскочил, раскрыл рот, глаза его забегали.
— Братва! Братва! — он озирался в поисках своих. — Городские наших бьют!
Расталкивая пионеров, звеня колокольчиками, к месту конфликта ломанулись детины: здоровые как кони, рыжие, выросшие на полезном труде и свежем воздухе.
— Чо? Чо? Чо? — захлопали, точно крылья, их голоса.
Но увидев причину конфликта, увидев Оксанку Рябко, деревенские будто наткнулись на стену.
— Девчонка? — изумились они.
— Ща в зубы дам за девчонку, — сказала Оксана.
Из-за спины её выглядывала Кристина Буринская. В тот момент — момент испуга и волнения — она была прекрасна как никогда.
Деревенские почесали головы, пошушукались, на всякий случай уточнили у Штыря:
— Вань, а она тебя пидарасом называла?
Штырь мотнул головой — нет.
— А колхозом или деревней?
Штырь надулся — тоже нет.
Этика Штыря теперь работала против него самого.
— Тогда это, Вань… Один на один.
— Да куда? Какой один на один? — Штырь подскочил. — Она же баба! — он истерично кинул пальцами в Оксану. — Баба, только в штанах…
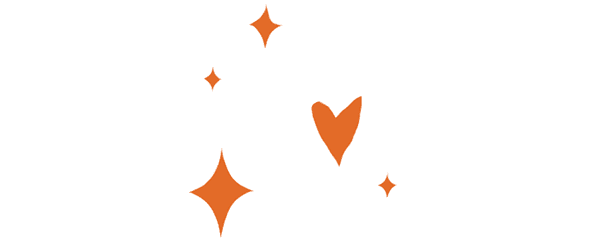
Договорить ему не удалось. Хлёсткая пощёчина Оксанки Рябко вновь сбила Штыря на землю. Он покатился, сбил пару танцующих. Подняться ему Оксана уже не дала. Она набросилась на него, как животное, разъярённый альфа-самец на защите прайда. И нога Оксанкина — мускулистая нога в брюках и вьетнамской кедине «Два мяча» — звонко стукнула Штыря в подбородок.
Передние зубы предводителя деревенских улетели в небо. Белые-белые, крепкие-крепкие — они могли служить Штырю всю жизнь, но теперь исчезли в летней ночи, точно две маленькие кометы. Оксанка Рябко продолжала втаптывать Штыря в землю. Её нога в кедине крошила его лицо, и оно расползалось, теряло контуры, растворялось в кровяной дымке.
Музыка взвигнула — и замолчала. Динамики закричали голосом директора: «Всем… Слушать меня!!! Прекратить!!! Отставить!!!» И когда это не помогло, директор закричал так, что с деревьев попадали мёртвые птицы: «Милиция-а-а-а-а!»
Только тут Оксанка остановилась. Кодовое слово отключило её механизмы. Она уже была в милиции и знала: если кто-то над ухом орёт «Милиция!», лучше не дёргаться — потом в милиции могут приписать сопротивление при аресте и накинуть к приговору.
У ног её распласталось тело, недавно бывшее Ванькой Штырём. Тело булькало и конвульсировало. Оксана дышала тяжело, смотрела на всех исподлобья. Выяснилось, что в суматохе у Кристины Буринской порвали футболку. И теперь один сосок её — сосок самой прекрасной груди на свете — недоумённо взирал на окружающих. В другое время мы бы не смогли отвести от него глаз. Мы пронесли бы это виденье через годы, рассказывая о нём внукам, смакуя как самое сладостное переживание в жизни. Но сейчас никто не обратил внимания на грудь Кристины Буринской, в которую был влюблён весь лагерь.
Все смотрели на Оксану Рябко. Все понимали, что сейчас произошло нечто важное. Мы не знали ещё тогда аббревиатуры ЛГБТ, мы впервые столкнулись с тем, что девочка может любить девочку, но все мы стояли и усваивали урок. Интернатская Оксана показала нам, как нужно биться за свою любовь, за друзей, за убеждения — за родину, если хотите. И каждый из нас стоял и задавал себе вопрос: «А я бы смог так же?» И пугался собственного ответа, и терялся, и уносился мыслями в космос — не отрывая глаз от странной девочки с пергидрольным чубом.
Мигнули сирены. На танцплощадку медленно въехал милицейский УАЗ, который дежурил в лагере всю смену. Из УАЗа высыпали милиционеры.
— Оксана-а-а! — вдруг поняв всё, сорвалась с места Кристина Буринская и бросилась к ней в объятья. Две девочки поцеловались. Они целовались так, как, возможно, целовался Одиссей со своей женой, отправляясь на десять лет в Трою. Они целовались, как мартовские любовники, как стебли цветов, как земля и дождь. Милиционеры и лагерное начальство ждали молча, не рискуя им помешать.
Потом Оксана шагнула в уазик. Усмехнулась, оглядев напоследок нас всех. «Модерн Токинг навсегда!» — весело крикнула она и села в машину. Явив пионерам ещё один пример невыносимой, фантастической крутизны.




