Путешественник Иван Дорджиев в рассказе о своём последнем визите в Лхасу подводит итог глубокой трансформации, через которую прошёл Тибет после подавления восстания 2008 года. О радикальных методах борьбы с самосожжениями тибетцев, системе тотальной слежки, систематической китаизации и других необратимых изменениях, через которые прошёл регион за последние десять лет, — в завершающем материале первой тибетской серии самиздата.
2014 год. Я снова в Лхасе, теперь уже точно в последний раз. Я понял это сразу, как только вышел из поезда, с первым вдохом лхасского воздуха. Воздух будто стал другим, сделался напряжённым и спёртым. В любой точке города, в самой узкой подворотне тебе в глаза смотрит камера наблюдения. Её не надо искать, она огромная и всегда на виду — блестящее белое яйцо с двумя круглыми чёрными глазницами. По всем большим улицам стоят посты военных под камуфляжными зонтиками.
На постах по четыре солдата — трое с автоматами и один с огнетушителем. Если направить на них объектив камеры, военные немедленно начинают кричать, подбегает полицейский и требует удалить снимки. Несколько лет назад тибетцы начали сжигать себя заживо, протестуя против репрессий и ограничения религиозной свободы. Несмотря на то, что Далай-лама не одобрял самосожжения, с каждый годом их становилось всё больше. Китайцы вводили войска в города и монастыри, отключали связь, платили осведомителям баснословные деньги — ничего не помогало. Выжившие в огне попадали в тюрьму за «нарушение общественной безопасности» на срок от трёх до десяти лет.
В 2013 году для тибетцев ввели коллективную ответственность. Полиция начала арестовывать родственников и друзей тех, кто подверг себя самосожжению, и назначать им длинные тюремные сроки. Средневековый метод сработал: уже через год самосожжения практически прекратились, но солдаты с огнетушителями ещё долго стояли на свои постах. За свою работу архитектор тибетских реформ «железный Чень» Цюаньго получил повышение и пост в Политбюро КПК.

По Пекинскому проспекту, главной улице города, я подхожу к старым кварталам. Оттуда слышен рёв механизмов, в воздухе висит серая пыль. В Лхасе рушат старый город. Это трудно: стены у зданий до двух метров толщиной. Их строили тысячу лет назад, каждый дом — крепость. Памятный камень со знаком «UNESCO World Heritage site» на Баркоре покрыт пылью убитых домов. На сносе работают только китайцы, тибетцев не видно. Мудрое решение руководства города: провоцировать беспорядки ни к чему.
Смотреть на это совершенно невыносимо, я ухожу в узкие улочки, подальше от отбойных молотков, стреляющих очередями по старой Лхасе. И не верю своим глазам. Тех улочек, где мы по ночам носились на велосипедах, тоже нет. На их местах расположились другие, более широкие и современные улицы. Мощённые идеально ровной плиткой, а не кривобоким булыжником. Расширенные за счёт снесённых нелепо толстых и наклонных стен тибетских домов. Теперь все постройки сложены из правильной формы блоков и строго вертикальны, а архаичная заморочь с наклоном стен умело сымитирована дизайнерскими окладами окон. На каждом доме установлена красивая табличка с номером, и рядом с ней в стандартный стакан вставлен красный китайский флаг. Как пишет государственная пресса, «в Лхасе стало так же хорошо, как в любом китайском городе».
Слово «китаизация» — из ранга этически двусмысленных — уже некоторое время как перекочевало в лозунги. Использовать его уже не стыдно, а совсем наоборот. Сам верховный лидер Си в апреле 2016 года на партийном съезде призвал к «китаизации» всех религий, предостерегая от «скрытого зарубежного влияния» и «идеологических посягательств экстремистов». Китайское правительство признало культурный геноцид тибетцев и оправдало его.
Поезд в Пекин
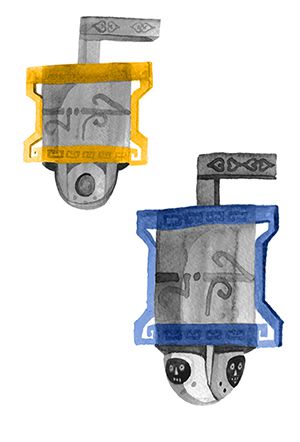
В этой новой Лхасе я ищу своих друзей и знакомых — и почти никого не нахожу. Их дома закрыты или проданы, на рабочих местах сидят другие люди. Те, кто остался в городе, поят меня чаем и не отвечают на вопросы про общих друзей. В моих любимых тибетских ресторанах больше не видно тибетцев: готовят и приносят еду китайцы. В мясной лавке я встречаю бывшего владельца одного из таких заведений, некогда рекомендованных Lonely Planet, невысокого полного дядьку. Он неряшливо одет, и от него не очень хорошо пахнет. Но, конечно, он тоже приглашает меня на чай. И тоже не отвечает на вопросы, зато рассказывает мне одну историю, похожую на притчу.
Однажды — скажем, год назад — приехала в Лхасу одна девушка. Сама она была американка, но жила в Китае и работала где-то на юге учителем английского. Работа ей нравилась, и в Китае ей нравилось, поэтому свой отпуск она решила провести тоже в Китае. И отправилась на поезде в Лхасу. Пока она шла от поезда до отеля, отправила СМС своему другу за границу. Написала, что китайцы испортили город. Наверное, какие-то слова использовала крепкие, неправильные. Отправила и забыла, пошла гулять по Лхасе. Возвращается в отель, а её там уже ждут двое. Допрашивали её всю ночь, перерыли все вещи и телефон, а утром посадили на поезд в Пекин. А там посадили на самолёт и аннулировали визу. Даже за вещами заехать не дали.
Рассказал он мне историю, подлил чаю и вернулся обратно в свою лавку. Как будто я уже ушёл. Тогда я чай допил и правда ушёл. Потому что иностранец в лавке ничем не лучше СМС. Технология отслеживания сетевого трафика в Китае сегодня уже находится на совершенно новом уровне. Упоминание Далай-ламы или фото с ним — тюрьма, флаг свободного Тибета — тюрьма надолго. Двоих монахов посадили на пять и семь лет за то, что они отправили своим друзьям через WeChat фото с людьми в меховых шубах и под заголовком «Позор носящим мех!», таким образом поддерживая кампанию Далай-ламы против одежды из натурального меха.


Поздним вечером пришли и ко мне в отель, и тоже двое — тибетец в полицейской форме и китаец в штатском. Я стоял в одних трусах среди разбросанных по комнате вещей и думал, куда же я мог сунуть зубную щётку, когда дверь в номер открылась и они вошли. Моя форма одежды их ничуть не смутила, тибетец сразу достал ручку и планшет с бумагой, аккуратно отодвинул горку вещей на столе и приготовился писать. Моей первой реакцией было наорать на них, но притча про СМС и поезд в Пекин помогли справиться с гневом. Я решил, что одеваться в такой ситуации — значит, показывать свою слабость, так и провёл весь допрос в трусах.
Вопросов было немного, говорил в основном тибетец в форме. Оба были подчёркнуто спокойны, голос ни разу не повысили, и если бы меня просили подобрать одну характеристику к этому разговору, я бы выбрал слово «дружелюбный» или даже «ласковый».
Первым делом тибетец рассказал мне, где я был после выхода из поезда и с кем разговаривал. Китаец иногда что-то вставлял по-китайски, поправлял. Вероятно, он знал обо мне ещё больше. Затем я выслушал короткую лекцию о развитии Тибета. Узнал, что в Тибете полностью пресечены нелегальные перемещения иностранцев, имевшие место в прошлом, и что важную роль в этом сыграла помощь местного населения. Означенное население получает денежные премии за сообщения о замеченных иностранцах в размере до 50 000 юаней. Цифра в голове не укладывалась: почти 10 000 долларов США! Я чуть было не ляпнул, что раньше платили по 400 юаней за голову, но СМС, девушка и поезд опять вовремя пришли на помощь.

После лекции меня немного поспрашивали, что я собираюсь делать дальше, тибетец всё аккуратно записал на листке. Финальную часть разговора взял на себя китаец, тибетец переводил. Мне было сказано, что завтра я должен уехать из Лхасы, желательно в первой половине дня. Что они не имеют ко мне претензий, но всем будет лучше, если свою китайскую визу я догуляю в других провинциях Китая. Затем ещё раз спросили, что я собираюсь делать дальше, я ответил правильно, тогда они пожелали мне доброй ночи и откланялись, оставив меня стоять в трусах над недавно распотрошённым рюкзаком, который теперь придётся собирать обратно.
Честно говоря, после этого дня и я сам был рад уехать из Лхасы. Из Лхасы, но не из Тибета. На поезде я пересеку границу провинций и выйду в Цинхае, в предгорьях Куньлуня. Там нет никаких ограничений на перемещение иностранцев, и там живут кочевники-тибетцы. Глотну свежего горного воздуха после спёртого воздуха Лхасы. Забуду про камеры слежения, регистрацию в отелях и людей в штатском. Если где-то всё осталось по-прежнему, то только у жителей высокого плато.
Сидя на вокзале в ожидании поезда, познакомился с китайцем, бывшим школьным учителем из города Ланчжоу. Три года назад он с женой и дочкой переселился в Тибет «в поисках лучшей жизни». «А что, тут платят больше?» — поинтересовался я. «Нет, — ответил он, — здесь ребёнка дают. Хайцзы [ребёнок — кит.], — подтолкнул он жену в бок, и та сразу мечтательно заулыбалась. — Если переселяешься в Тибет, можно иметь двух детей. Сейчас едем в Ланчжоу за ребёнком». «Как это? — не понял я. — Берёте приёмного?» Китаец рассмеялся на весь зал. Он был очень горд и хотел, чтобы все об этом знали. «Нет, едем его делать, — громко сказал он и сопроводил слова выразительным жестом. — В Лхасе ничего не выходит из-за большой высоты». Я посмотрел на людей вокруг. В зале ожидания сидело немало китайских пар среднего возраста, они тоже ждали поезда в Ланчжоу.
Цинхайские всадники
Я вышел из поезда в посёлке Тотохэ, там, где тибетская железная дорога пересекает исток самой большой реки Евразии. Янцзы даже здесь не меньше ста метров шириной, хоть и очень мелкая. Здесь очень высоко, 4600 метров над уровнем моря, пастбища находятся ниже. Я переночевал в посёлке и только на следующий день добрался до палаток кочевников. Внутри было всё как всегда: горящий в печке кизяк, масляный чай из ступы, немногословные хозяева шуршат по хозяйству. Но и здесь какая-то напряжённость во взглядах, и совсем нет улыбок. Надо уходить, гость им не в радость.
Я поднимаюсь, и вдруг хозяин поднимается вместе со мной. Просит меня остаться, говорит, что скоро приготовится мясо и мне надо поесть перед дорогой. Это неожиданно и приятно: кавказское гостеприимство совершенно не свойственно тибетцам, здесь живут по принципу «уходишь — уходи». Я жду ещё полчаса, но мясо всё не готово. К сожалению, я должен идти, чтобы успеть до ночи прийти в посёлок. Извиняюсь и ухожу, так и не увидев ни одной улыбки.
Пересекаю пастбище, перехожу вброд Янцзы, сажусь переобуться. И вижу, как от палатки тибетцев через пастбище ко мне несётся полицейский джип, а мои хозяева бегут за ним следом. Джип останавливается на том берегу, реку ему не переехать. Он начинает гудеть мне, из него выскакивают менты и вместе с кочевниками собираются на берегу и машут мне руками. Они что-то кричат, но далеко, слов не разобрать. Я сижу на берегу без движения, и внезапно меня охватывает такая безнадёга, становится до слёз грустно и одиноко в моём самом любимом месте на Земле.

А кочевники уже лезут в реку, и менты сидят у них на закорках. Совсем скоро у меня появится компания. Джип уносится куда-то — видимо, искать брод. Пыхтя от натуги, кочевники выбираются на мой берег. Менты изучают мой паспорт, фотографируют его и меня, куда-то шлют фотки. Спрашивают, откуда и куда я иду, берут с меня слово, что я не уйду в Тибет. Они выполнили свою работу, это видно по расслабившимся лицам. Просят сделать селфи со мной, широко улыбаются в камеру. Мы жмём друг другу руки, и меня отпускают. Неподалёку стоят мокрые и растерянные кочевники. Думаю, им, как и мне, до смерти хочется оказаться в прошлом, когда здесь не было сотовой связи и возможности оказаться за решёткой за «недонесение».
Солнце уже низко. Я иду ему навстречу по дороге, которая, почти не петляя, уходит за горизонт. Вокруг меня — бескрайние пространства высокого плато, пологие холмы, кочковатые болотца. Прохожу крохотное озерцо с прозрачной водой. Была бы палатка, остался бы около него на ночь. Сидел бы на берегу и смотрел, как в озере отражаются мириады тибетских звёзд, крупных, как жемчуг. Мне так не хочется возвращаться к людям. Сейчас здесь только я, это озерцо, дорога, облака и парящие в небе птицы. Одно время часто возвращался к этому воспоминанию, а потом перестал, прочитал очередную статью о современных технологиях Китая. Там среди прочего упоминалась успешная правительственная программа по разработке дронов-наблюдателей для работы в Тибете. Эти дроны насколько неотличимы от птиц, что могут лететь с ними в одной стае.
Сам не пойму, почему, но я до сих пор не снёс с телефона китайский мессенджер WeChat, где хранятся контакты моих тибетских друзей. Изредка я запускаю его и пишу им пару строчек — только нейтральные поздравления и приветствия, ничего, что могло бы привлечь внимание органов. Но больше никто не отвечает.



