Двадцать пять лет назад президент России Борис Ельцин объявил мораторий на боевые действия в Чечне. Официально первая кампания кончится только четыре месяца спустя, но к началу мая большая часть разрушений уже произошла. Республику покинули десятки тысяч беженцев, и большинство из тех, кто не имел чеченского происхождения, так и не вернулись. Совместно с «Такими делами» самиздат публикует монолог уроженки Грозного Татьяны, которая не оставила свой дом и живёт в Чечне и сегодня.
Татьяне Поповой скоро 50. До пенсии ещё далеко, но Таня постоянно говорит о себе, что она «уже бабка». Она действительно выглядит старше своих лет: маленькая худая женщина, она ходит в поношенных платьях и старых куртках, кожа на лице и руках у неё давно приобрела сероватый оттенок. Одежду она часто берёт в храме Михаила Архангела — там есть небольшая комнатка, где складывают вещи для нуждающихся. У Тани много седых волос, хотя их практически не видно: косынку она не снимает даже дома. В Чечне, где Таня родилась, выросла и живёт до сих пор, носить косынку женщине было принято всегда.

По дому Таня ходит в резиновых тапках — это самая популярная обувь у взрослых чеченских женщин, в них ходят дома, во дворе и на улицу. Таких тапок у Тани две пары: одна для дома, другая для улицы, и когда она выходит встречать гостей, то первую пару не снимает — просто продевает ноги во вторые тапки и так и ходит по двору, в двух парах сразу.
С Таней мы знакомы несколько лет, и каждый раз при встрече она рассказывает про своих котов. Сейчас у неё постоянно живёт одна кошка — маленькая, как котёнок, и вечно беременная. Скоро она снова родит котят и будет прятать их во дворе у сарая. Был ещё кот, но давно не приходил. «Сдох, наверное», — вздыхает Таня.
Когда тепло, мы сидим с Таней и её сыном Витей во дворе, когда прохладно — на маленькой кухне в доме. Кухня тесная — вчетвером уместиться сложно: инвалидное кресло, на котором сидит Витя, занимает много места. Пока мы разговариваем, Таня всё время стоит: хотя есть лишняя табуретка, ей кажется, что так на кухне будто бы свободнее.
Татьяна живёт на участке, который когда-то получили её бабушка и дед. После депортации вайнахов 1944 года государство начало политику заселения земель представителями других национальностей. Кого-то переселяли в опустевшие дома, а кто-то получал землю и возможность «строиться». В этот период в Чечню переехала бабушка Татьяны. Её муж, казак из чеченской станицы, получил в Грозном землю, где они с женой и построили дом.
Частные дома с участками, как у Тани, занимают очень большую часть города, местами это целые районы. Танин район в народе называется Карпинка. Выглядит он, конечно, уже не так, как в годы, когда сюда переехала бабушка Тани: дома здесь сейчас солидные, в основном из кирпича, участки огорожены высокими заборами с железными воротами, какие очень популярны на Кавказе. За ещё более высоким забором, в пяти минутах езды от дома Тани, расположен второй полк ППС имени Ахмата-Хаджи Кадырова, легендарный кадыровский спецназ. Дом Тани, сложенный по старинке из саманных кирпичей, на фоне соседних выглядит убого.
Таня свой дом любит, много рассказывает про фрукты и овощи, которые могут вырасти такими вкусными только на родной чеченской земле (помидоры такие, что и мяса не надо); про хорошую погоду и привычку к летней жаре, про непереносимость сырости, которая «там, в России»; вспоминает, как раньше соседи постоянно собирались во дворе, устраивали посиделки, пили домашние соки и вино. Не нравится ей, пожалуй, только трёхэтажный дом соседа, который плотно примыкает к её забору своей глухой многометровой стеной.

Люди, которые когда-то собирались у Тани во дворе, в большинстве своём умерли или покинули Чечню. На её улице русских больше нет, хотя в Карпинке ещё осталось несколько русских семей. Танины бабушка и дед застали этот район совершенно русским, поколение её матери — русским наполовину. Этот период застала и сама Таня. Когда началась первая чеченская война, ей было 24 года. Русский Грозный она помнит только по рассказам своих родственников: во времена её молодости чеченцы уже составляли в республике национальное большинство.
Русские, армяне, евреи и представители других национальностей по разным причинам начали уезжать из республики ещё до войны. Остались немногие, в том числе и семья Тани. Изменения в обществе происходили у неё на глазах: когда-то у неё не было и мысли о том, чтобы учить чеченский, а сейчас на улицах города русскую речь можно услышать, разве что нажав на кнопку аудиогида рядом с новыми арт-объектами — фотографиями улиц города, сделанными в войну, выставленными на специальных информационных стендах ради привлечения туристов.
Когда я спрашиваю Таню, что самое страшное в жизни, она отвечает сразу: одиночество. Про бомбы, обстрелы и голод она рассказывает как про обычные, повседневные вещи, которые пережить легко. А одиночество пережить невозможно. Таня себя одинокой не чувствует — с ней всегда рядом её сын Витя. Он практически не говорит — только иногда громко смеётся. Но одиночество всё равно обступает Таню со всех сторон: коренных русских, подобных ей, в Грозном осталось всего несколько сотен.
Были русские
Дед мой здесь родился, он был казаком. Чеченцев тогда мало было, их выселили в Казахстан. Бабушка из Подмосковья. Дед там служил, с ней познакомился и привёз сюда жить. Они всё построили сами. Саманы месили ногами — для себя и на продажу, чтобы копейку заработать. Поэтому ноги больные были.
Бабушка сама крышу крыла. Надо было рожать дядю Серёжу, уже воды отходят, а она глину на потолок поднимает. В роддом ходили через гору. Ну, положила она ещё один блин для утепления — и пешком рожать. Серёжа, правда, даун родился. Такой хороший, всех любил! Нянчился со мной.
Дед говорил, когда они учились, все русские были. Мама рассказывала, у неё четверть класса были чеченцы. У меня половина уже была, мы дружили. Многие погибли — они же ушли воевать. Другие уехали в Россию. Когда я учителем работала, в классе ни одного русского не осталось. Зато ученики чисто говорили по-русски, без акцента. Тогда все на русском разговаривали, я потому сама чеченский не выучила.
Дядя Серёжа во вторую войну погиб. Хотя ничего плохого никому не сделал. Две мины угодили в дом. Жить негде. Ушли они с дедом из города и пропали. Это было в январе 2000-го. Бабушку ещё до Нового года во дворе убило. Побежала в сарай, укрыться хотела от самолётов, а ей в спину осколок попал. У деда, наверное, в голове сразу помутилось, он без бабушки не мог. Соседи-чеченцы уходили, позвали его с собой. Спросили про бабушку, он их отвел в сарай, а там она мёртвая. Предложили закопать во дворе, но он не дал. Сарай закрыл, замок повесил и ушёл. Мы с мамой весной нашли останки — череп и несколько косточек. Наверное, собаки растащили. Соседи говорили, что слышали собак, но выйти боялись.
Поехали бабушку хоронить. Похоронщики нам дали мешок чёрный, большой. Они по дворам ездили, собирали тех, кого перезахоранивать. Мама села с ними в кабину, я — в кузов. Подобрали мёртвого мужика, здорового такого, и положили в мешок поменьше. Я в кузове с ним, а машина дрыгается по кочкам, он и открылся. Ну, мы им отдали наш, как раз мужик и поместился туда.

Бабушку похоронить не получилось — комендантский час, не успели. Это был май. Трактором выкопали яму, в Октябрьском, с краю кладбища. Минировали же, боялись идти внутрь. Нам сказали её оставить — мол, все трупы соберут, а завтра хоронить. Утром поехали, нарвали тюльпанов охапку большую, даже крестик деревянный сделали. А они, оказывается, уже закопали. Не знаю, одну или нет. Отвезли нас куда-то, мы там положили цветы. Всё равно она вся тут, бабушка, на участке.
Соседка была русская, но отец её — чеченец, и сама замуж вышла за чеченца. Красивая женщина с длинной белой косой. Ей было сорок с небольшим, у неё дочка была и мама лет 90, не ходячая. Дочь она отправила отсюда и осталась с матерью. Их жестоко убили боевики. Говорят, бабке голову отрезали. А те белые волосы собаки потом таскали.
Нашим солдатикам тоже досталось. В первую войну восемнадцатилетних пустили — дети! Пленных боевики работать в город привозили. Светленькие, а кожа загорелая, лето же было. Идёшь — они по пояс раздетые, разбирают завалы. Смотрят молча, но глаза о помощи просят. А что мы с мамой сделаем? Страшно было. Естественно, их потом всех под расход.
Мама
У мамы психика не выдерживала. Когда бомбили, выбегала босиком на улицу, держась за голову. Кричала. Ей перед первой войной сон приснился: три лица святых сказали — всё будет нормально, не бойся. Так и было, разрушили по мелочи. А в 99-м году ей приснилось, что все мёртвые, и голос сказал: уходите. Мы говорим бабушке — уезжать надо. Она — кому мы там нужны, без кола и двора останемся. Мама плачет, но бабушка ни в какую. Просили, чтобы дядю Серёжу нам отдали. Они — а нам кто поможет? Ни воды, ни дров. И вот мы с мамой беженцы. Мама плачет, а я не понимаю. Молодая, глупая была. Надеялась, что будет хорошо. Ругала её, что документы забыла.
Мы поехали в Минводы, оттуда нас отправили в Саратовскую область, городок Балаково. Добирались своим ходом. Из электрички нас выкидывали. Билетов-то нет. Открывали дверь, контролёр хочет сумку выбросить, а я не даю. Хотя он мог и меня вместе с ней. Потом какая-то женщина заплатила за нас. На вокзале ночевали, милиция нас гоняла. Приехали — а там общежитие с кучей беженцев. Давали талончики на еду. Нам с мамой мало надо — мужика-то нету. Но там была такая сырость — всё текло. Дали пальто зелёного и красного цвета и кирзовые сапоги, мы все одинаковые ходили. От сырости стали болеть, вернулись домой. Это было весной 2000 года.
Мама устала, села на рельсы у вокзала, а я прибежала на участок, сюда. Тут всё разломано мародёрами. Окон нет, крыша разбита, на кровати собака дохлая — видать, осколком убило. Что маме сказать? Пошла к соседям-чеченцам — спрашивать, где наши. Может, ушли? Но никого нет. На Ташкале у нас квартира была. Прибегаю — дом стоит, люди живут немножко. Слава Богу! Поднимаюсь на этаж — всё сгорело, плиты обвалились. Прихожу к маме, уже темнеть начинает. Женщина воду набирала из колодца, говорит нам — что сидите? Комендантский час, скоро обстрел начнётся. Пошли на автобазу к военным. Они нас у себя оставили на две ночи, но потом говорят — лучше вам здесь не ночевать, а то придут за нами, прирежут и вас. Через дорогу военные в каком-то учреждении собирали стариков, подкармливали их и отправляли в Россию. Там печка-буржуйка, каша с мясом. Нас тоже взяли туда. Они закрывали на ночь, снаружи гранату вешали и уходили. Утром гранату снимали. А что толку? Туда и через дыру залезть можно было. Мы там неделю ночевали, а днём разбирали завалы в доме. Я черепицу сама клала.
Потом ушли в наш дом. Света нету, газа нету. Еда была, я пекла блины, к военным за хлебом и кашей ходили. А вот за водой приходилось ездить далеко. Ещё она солёная была — не то что пить, стирать тяжело, всё бельё колом. Но пили. Страшновато было, собаки прибегали ночью, а на окнах клеёнка, что там её прорвать. Мама как умерла. Вроде ходит, ест, но желания к жизни нет. Я её ругала, плакала, умоляла, но она не могла гибель родителей пережить. Говорила ей — а я? Что я буду делать одна?
Платок
В сентябре устроилась в 11-ю школу. В октябре детей отправляли на месяц в Нальчик. Должна была чеченка ехать с ними, но её не пустил муж. Назначили меня. Или поедешь, или уволим. Я говорила — не могу маму оставлять в таком состоянии, а она мне наоборот — езжай, ждать буду. Как раз приехал муж мой будущий, Лёня. Он у нас и так до двух часов сидел каждый день, я попросила присматривать за ней.
В Нальчике я ни дня не провела спокойно, мучилась от предчувствия. Письмо маме написала. Она его всем читала, держала у сердца. Я просила сменщицу присмотреть за детьми, чтоб съездить домой хотя бы на ночь, но она отказалась. Оставалось пять дней всего. Вызывают нас и говорят, что умерла мама чья-то. Я поняла всё, закричала, потом ничего не помню. Меня, оказывается, в машину посадили, деньги кидали, сумку собрали, привезли в Грозный. Выходит навстречу Лёня и друг его Рахман, чеченец. Они уже маму обмыли, положили на дверь, снятую с туалета, надели платье, платок повязали. Я сидела два дня около неё, зеркало подставляла. Вдруг летаргический сон.
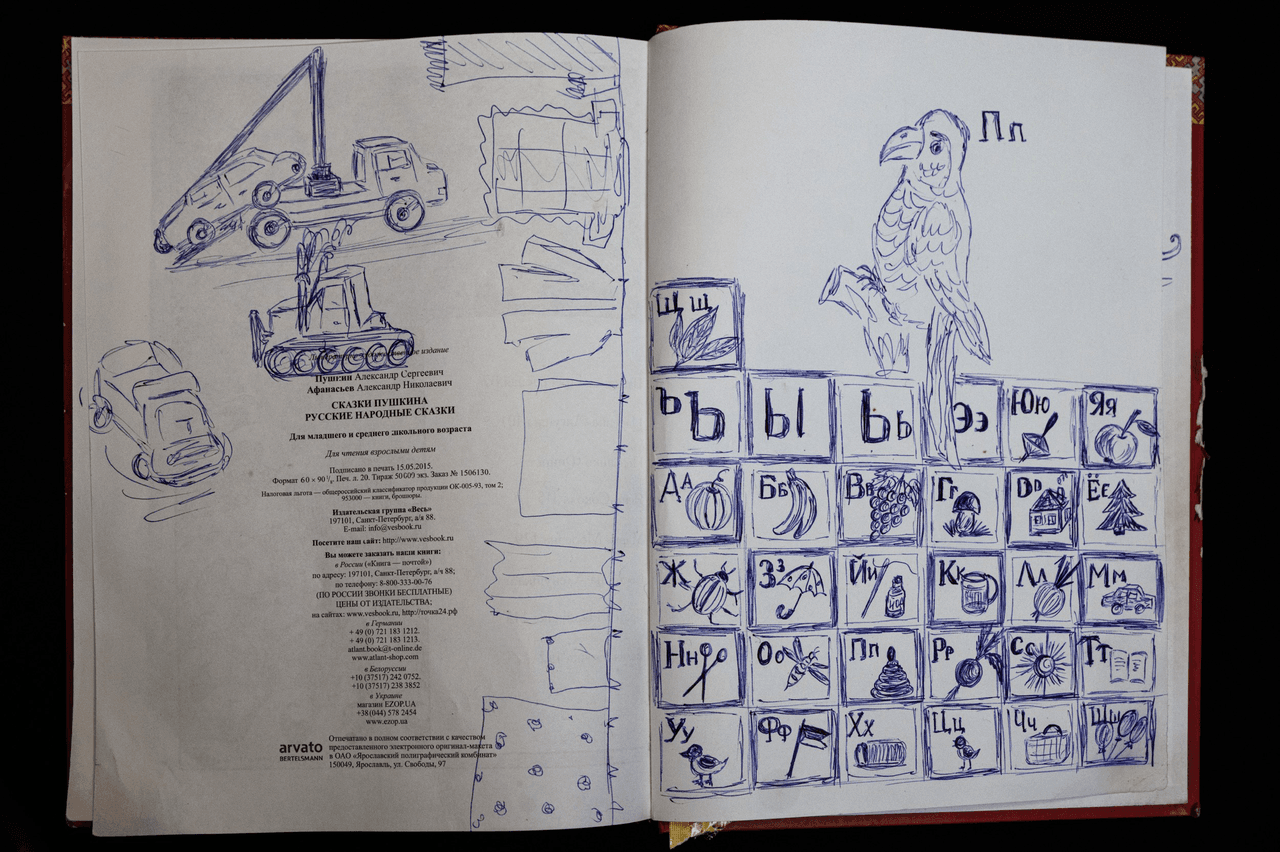
Похоронить пять дней не могли — из-за всяких заварушек кладбища были закрыты. Тетя Нина, свекровь моя будущая, хотела её во дворе прикопать, но я не дала. Потом разрешили отвезти на кладбище, что около 36-го участка. Три ряда трактором выкопали и сказали — кладите в любой. Лёня гроб сделал сам, обили простынями. Это был его первый гроб — потом он ещё четыре сделал, а затем и хоронил сам.
Когда уже вынесли во двор, пришли со школы соболезновать. Они мне и сказали, что мама повесилась. Я поворачиваюсь, бегу, развязываю ей платок. Тетя Нина говорила потом, что я побелела как стена. Думала, двоих хоронить будем. Дальше у меня как затмение, провал в памяти. Как хоронили, поминали — не помню. Стала как дурная. Ходила по городу. Выстрелы, комендантский час не замечала. Лёня выбегал искать. Говорят, я на работу ходила — не помню. Тётя Нина рассказывала, что я селёдку ела — а я рыбу не ем после того, как подавилась в детстве. Помню из тех дней одно — как мы сидим на кровати, а на столе лампа керосиновая. Мы молчим, и лампа упала. Пол загорелся, а мы смотрим втроём, как зомби. Лёнька опомнился первый, стал тушить. А я не поняла ничего — ну, горит. Красиво.
Помощница
Муж меня с рождения знает, у нас 14 лет разница. Он с дедом общался, я дружила с его племянницей. Она его боялась — он её брил наголо, когда баловалась. Мама могла стать женой его старшего брата Виктора, он её любил, но был стеснительный, ничего не получилось. Мама вышла за моего отца в 19 лет. Через 12 лет разошлись, но она его любила до последнего. Виктор предлагал ей — давай сойдёмся, ты развелась, я развёлся. Она отвечала — я за тебя девкой не пошла, а сейчас тем более. Что я тебе буду жизнь ломать. Ищи молодую, здоровую.
Лёня меня не любил. Просто жалел. Я бы не выжила одна. Меня в горы хотели забрать, замуж там якобы выдать, а дом себе. Он еле отбил. Но сразу сказал, что не хочет детей и семьи. А мне обязательно надо было! У меня все погибли. Его нехотение и моё хотение привели к тому, что дочь наша в могиле, а сын инвалид. Я, конечно, не так хотела. Я хотела по-нормальному.
Я очень хотела девочку, я цвела, так ждала её, и мне уже было 33 года. На седьмом месяце чеченка в больнице сказала, что угроза выкидыша. Врач выписал лекарство, я его купила, но практикантка сказала поменять. Поставили капельницу, и сразу давление поднялось. Они прочухали, что не то покапали, и выписали меня. Давление всё вверх ползёт, ребёнок бьётся. Чувствую — умирает. А они только таблетки выписывают. 18 октября я встала и поняла — всё, умер. Сказали врачи, что надо избавляться, я ответила — не хочу. Поехала домой. Но Лёня меня потащил в больницу — нет уж, будешь жить. Сказал, что в ответе за меня перед матерью моей и дедом.
Мёртвую я её родила за три потуга, хотя она ногами вперёд была. Кило двести весила. Просила посмотреть, но не дали, не подпустили. Увидела только чёрные кучерявые волосы — Лёнька с такими же родился. Пожилая медсестра завернула её в простынку и отдала мужу. Он удивился — а что её, в мусор? Она ему — ты дурак, это же дитё твоё, пусть и мёртвое. С ним был друг Юра. Он рассказывал, что Леня её так на вытянутых руках и вёз в автобусе. Даже в дом не занесли. На столик положили, не открыв, не посмотрев. Юра сделал гробик — сказали, что был как конфетка. Я не видела, меня держали в больнице. Прикопали её к моей маме. Я её Катюшей назвать хотела, в честь мамы. У меня и мама, и бабушка были Кати. Не назвала, что поделаешь.
Мне снилось, что она лежит голенькая и плачет. В церкви бабулька посоветовала купить шапочку, распашонку и прикопать там. Я поехала, а по дороге машину снайпер обстрелял. Стала реже сниться. Сейчас совсем редко — уже как растёт, как взрослая становится. Шестнадцать лет было б уже, помощница.
Есть всё для рая
Я Витю еле выносила, с первых дней тяжко было. После дочери у меня надрыв случился, глаза открылись на Лёню. До этого любила его как безумная, ничего не замечала, а тут стала холодеть к нему. Когда он увидел, что я снова беременна, выгнал из дома. Пришла я на наш разбитый участок, взяла одну подушку с собой. Стемнело, свечку зажгла. Я здесь после мамы боялась страшно. Думала, прибежит. Не прибежал.
Витька кучерявый родился, голубоглазый, красивый, на меня не похож. Ему сразу поставили ДЦП, хотя сначала нормально всё было, он везде лазал, это потом всё хуже и хуже, как шар накатывает. Тогда он со всеми общался. Я с иконами ездила постоянно, святой водичкой его умывала, боялась, что сглазят. Без движения Вите тяжело. Иногда говорит: мам, надоело сидеть, и ты мне надоела — только ты и ты. Но куда ж деваться, нет у нас никого. Ничего, сынок, нормально. Лишь бы нас приступы оставили. Очень тяжёлые пошли. Недавно руку чуть не сломал и щёку прокусил. Что делать? В России квоты нужны или деньги, а здесь всё, вроде, есть, но мы не нужны. Раньше я бегала везде, пыталась, билась, теперь разочаровалась. Веры нет. Им помогают, я знаю: и памперсы получают, и лекарства, и путёвки на море, а нам — ничего. Обидно — вроде, у нас то же самое, а мы не люди.
Но живём с Божьей помощью. Не голодные, в тепле. Я смотрела вчера «Мужское и женское», там тётка вообще в бараке. Мы по сравнению с ней как цари, слава Богу.

В больнице спрашивают — муж русский или чеченец? Русский — всё, отворачиваются, неинтересно. Своего б они не бросили. Но не чеченец родился. Предлагали поменять религию — нет, никогда в жизни. Мы и Новый завет прочли, и Ветхий. Я — христианка, меня всё устраивает. Не будь помощи извне, меня б уже не было, это Господь посылает терпение. И Вите тоже. Врачи удивляются — как вы ещё ходите? Господь помогает. А раз так живём — значит, так надо.
Боюсь, что помру, а он возле меня будет гибнуть от голода и холода. Никто не услышит. Мне говорят — молись, и Господь не оставит Витю одного. Он же ничего дурного не сделал. Наоборот, благодаря таким детям особенным этот мир прогнивший держится. Они же чистые. Он меня учит. Витя всякую козявочку любит. Радуется всему. Ведь на Земле есть всё для рая — живи и радуйся.
Сейчас уже неудобно орать
Чеченцы спрашивают — вы приезжая? Я говорю — ваша, коренная. И чего, в войну тут были? Да, представляете. Удивляются. А чего удивляться? Что, здесь русских не было? Приезжие не знают подноготную: что сказали, в то и верят. У нас на показухе всё держится. Копнёшь — а там другое. Гостеприимство кавказское, шашлык-машлык, все такие добрые. А во время войны русским бошки-то отрезали, дома забирали за бесценок. Понахапали жилья. Да и сейчас не дают нормальную цену. Говорят — ну ты же знаешь, мы за дорого не можем. Чего тут сидишь — или мотайте отсюда, или сдыхайте. Я им мешаю.
Но я борюсь, живу. Мне нравится наш участок, я выросла тут. Помидоры вкусные, таких не купишь. Человеку так мало надо во время войны. Поесть хотя бы раз в день, чтобы не падали бомбы и чтобы одиночества не было. Я всю жизнь боялась одна остаться, для меня это пытка. Если бы кто-то был рядом — муж, мама, я бы другая была. Пустота, сердце каменеет, я могу стать жестокой. Всё потому, что одна. Молю только, чтобы с ума не сойти. Телевизор хотя и грех, но он мне людей живых заменяет. И Витя стимулирует. Если б не он, легла бы и не вставала. «Мама!» — хочешь не хочешь, болит не болит, иди. А он как специально, когда плохо: «Мама, я есть хочу!» Боишься на нём сорваться. Я и Лёньке говорила — он всё равно твой сын. Как бы ты его ни ненавидел, он есть, и тебе отвечать придётся. Я — другое дело. Меня можно, я не кровная. Но его… Просила только приходить — ребёнок скучает, он его забывать стал. Витя его так любит, не понимает, почему папы нет. И меня, хотя и не за что.
Раньше я выходила во двор и кричала — когда соседей не было. Сейчас уже неудобно орать. Прибегут ещё, подумают, что с ума сошла. Хотя никто не придёт. Я живых не боюсь и мёртвых не боюсь, только одиночества. Вот чеченцы ценят родственников — это хорошо, седьмая вода на киселе, а помогут. У нас, русских, наоборот — чем дальше, тем роднее. У меня есть родственники — никто знаться не хочет. Даже поговорить просто.
Читайте другие монологи русских уроженцев Чечни на портале «Такие Дела».



